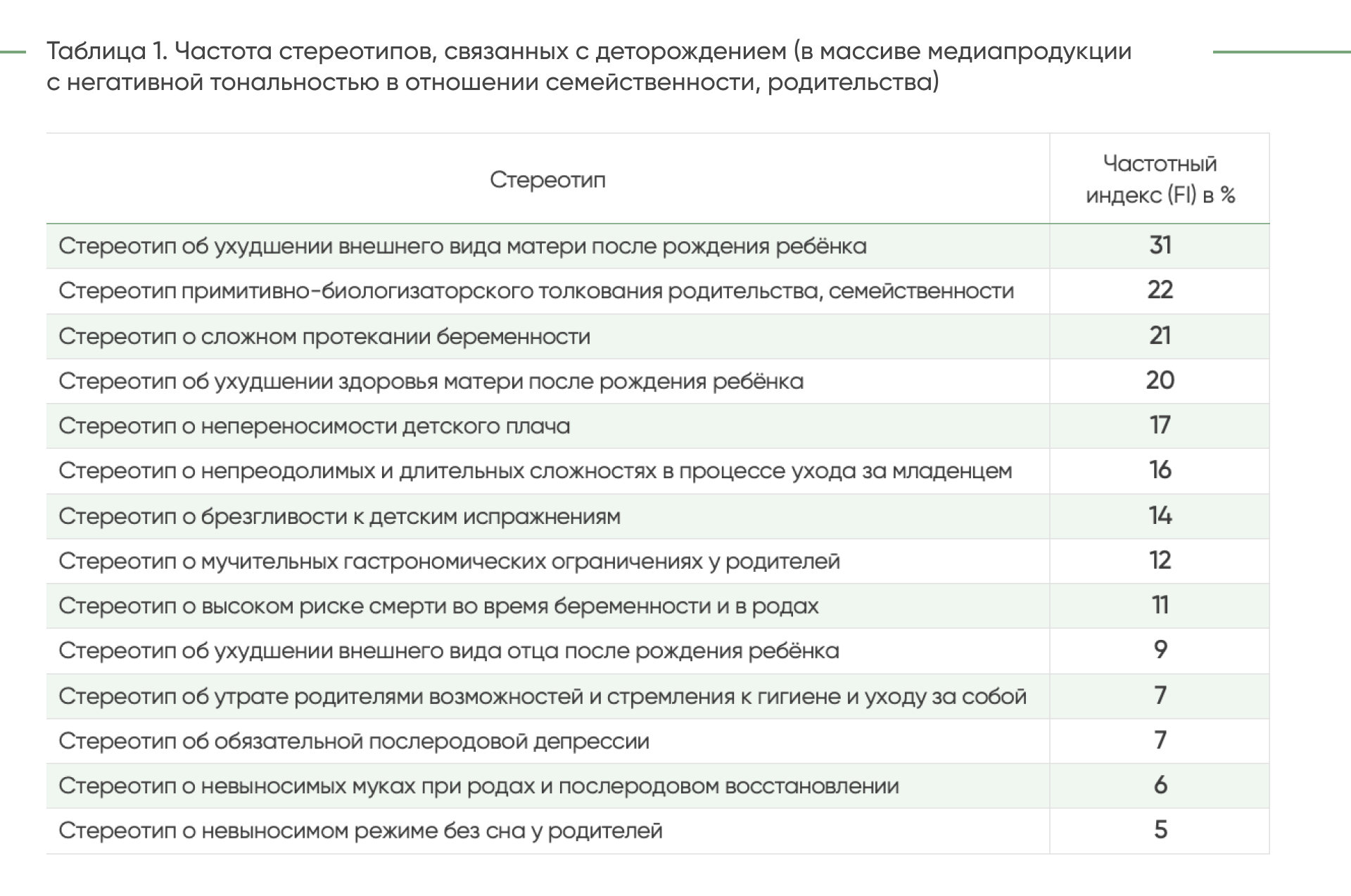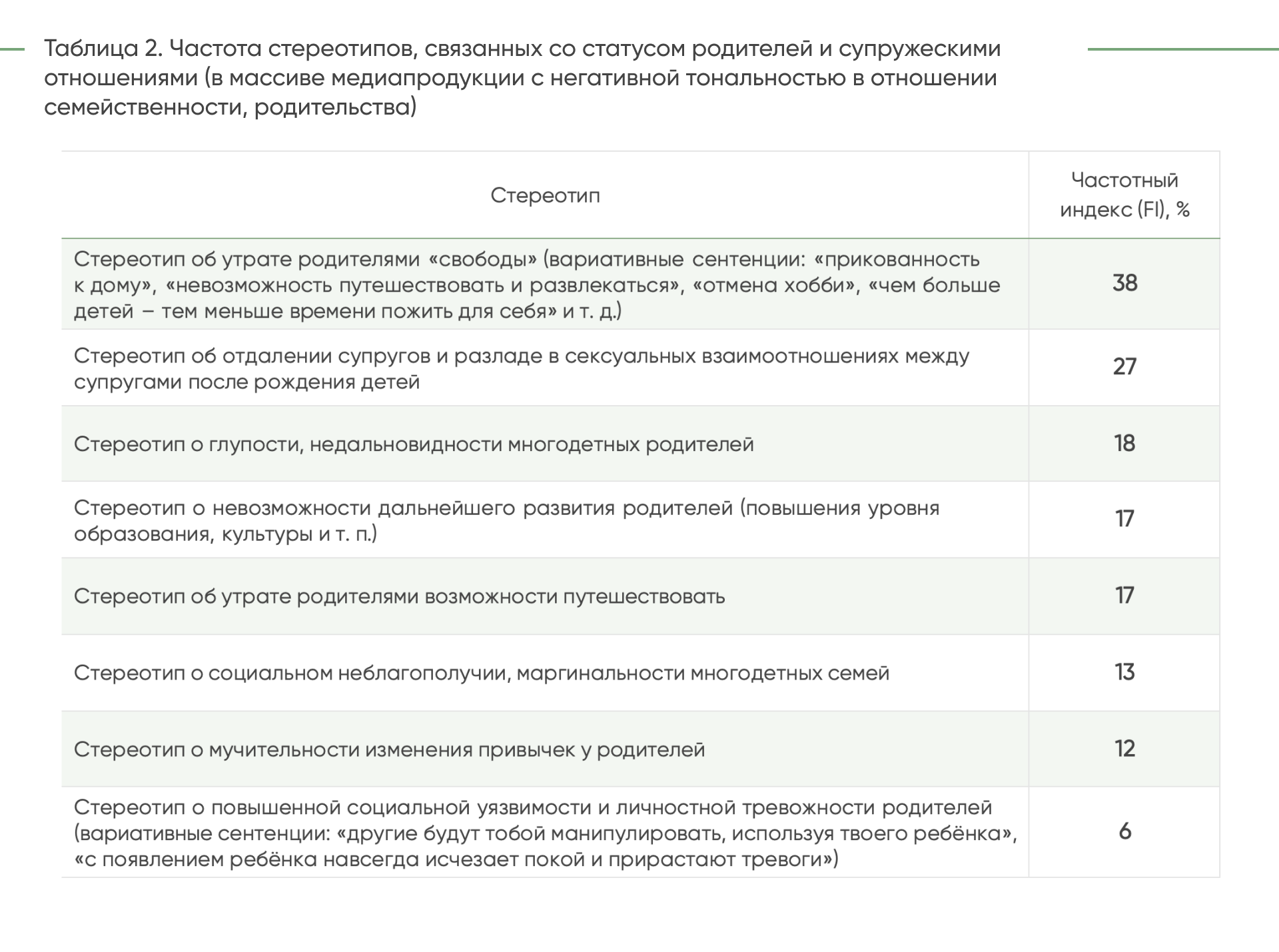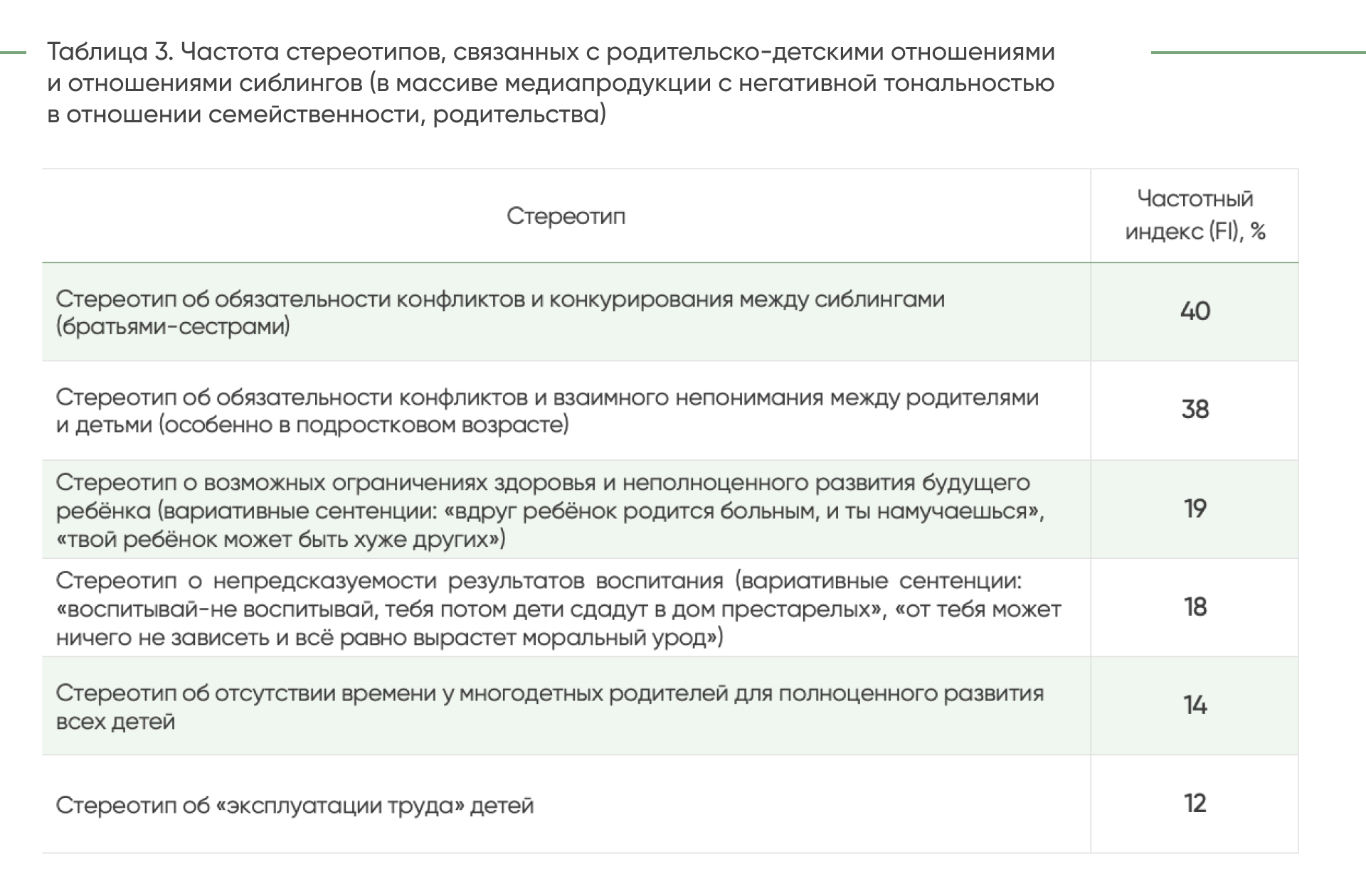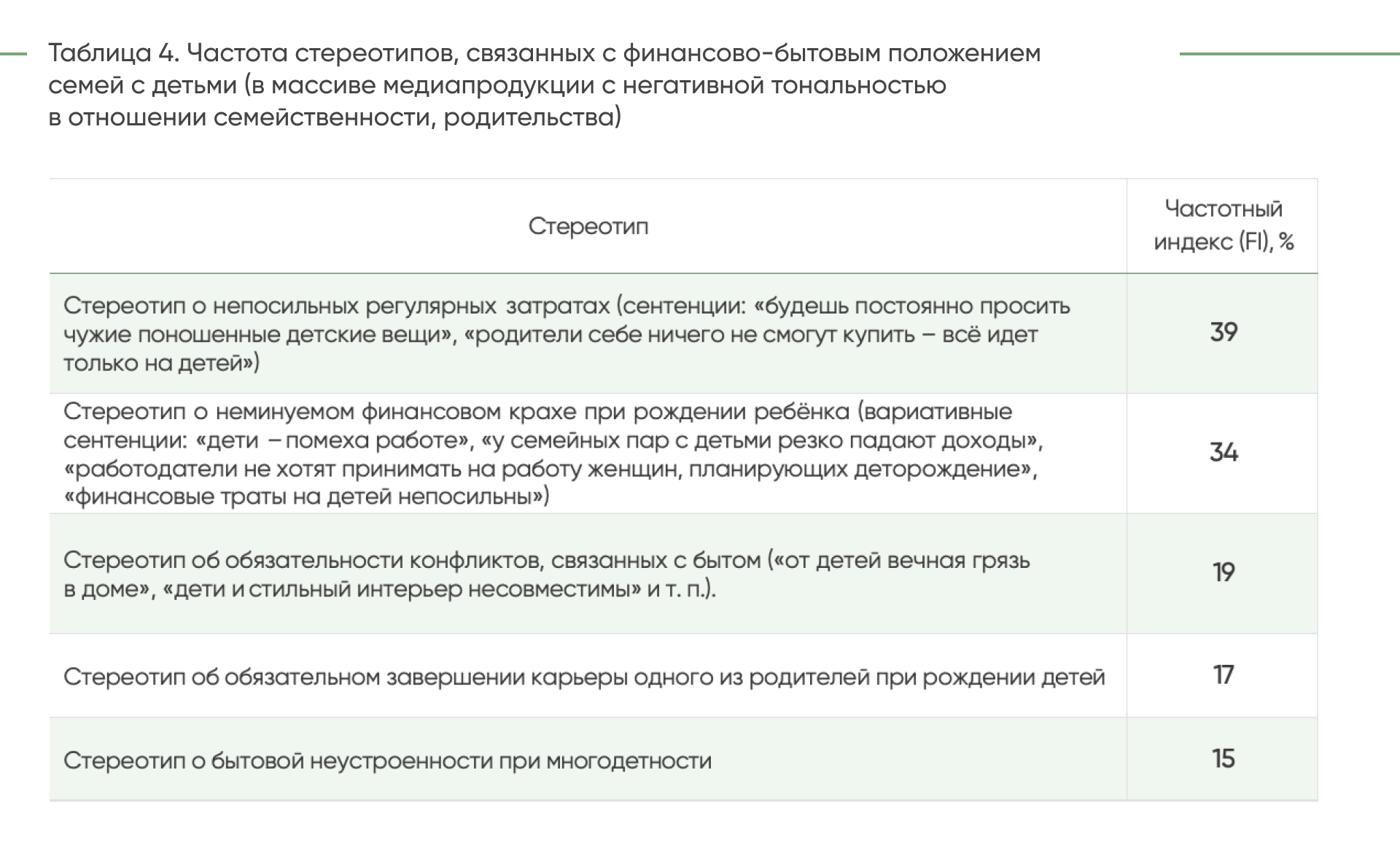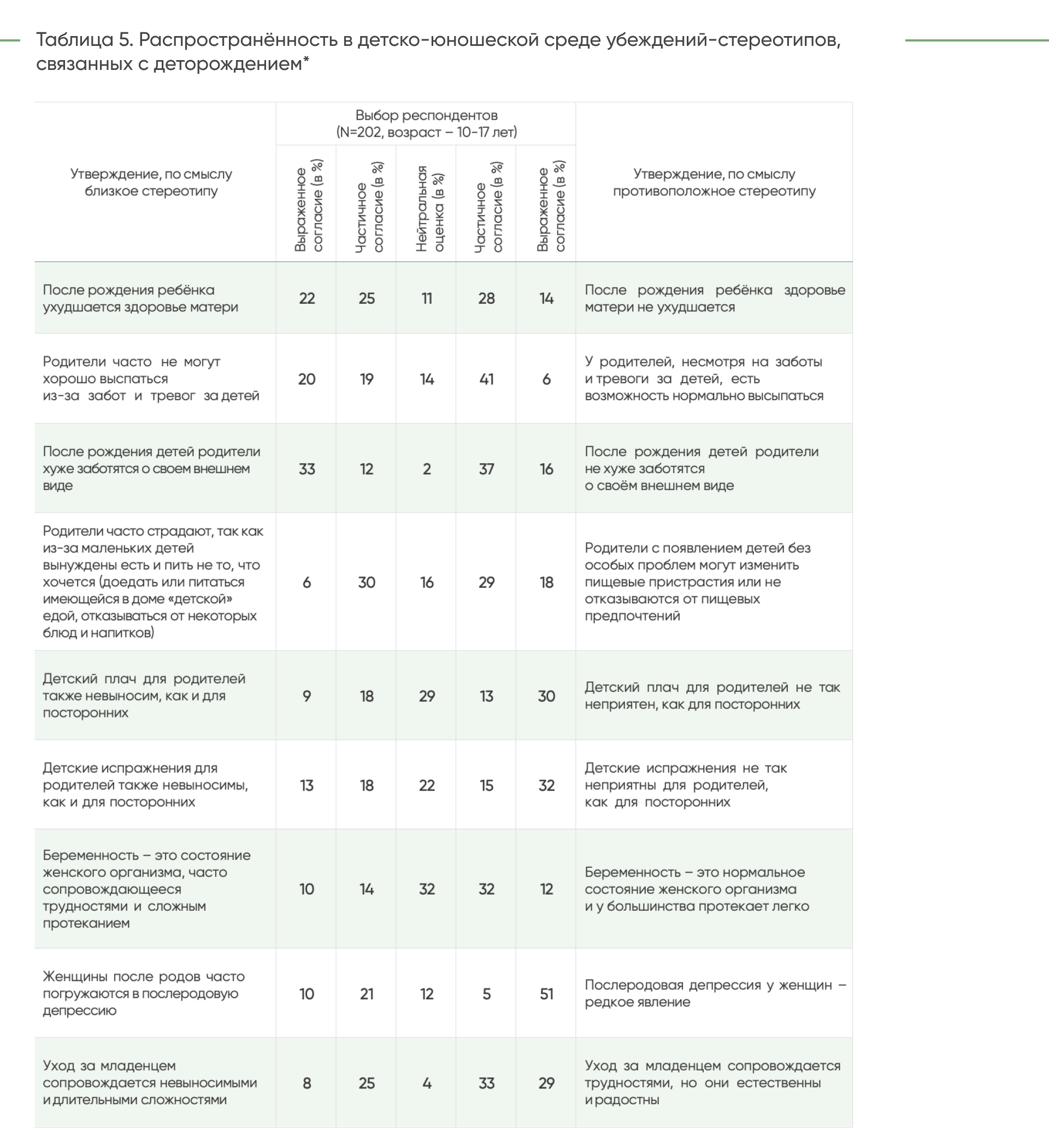Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
Введение
Демографическая проблема в современной России является одной
из наиболее острых. С преодолением демографического кризиса связаны
государственные усилия, научные изыскания и тревоги обывателей. Ни у кого не
вызывает сомнений, что воспроизводство будущего населения в стране зависит в
том числе и от репродуктивных планов подрастающего поколения. В свою очередь,
реализация репродуктивных планов опирается на экономические возможности
потенциальных родителей и их репродуктивное здоровье. Специалисты в области
демографии, социологии исследуют преимущественно следующие пути, поддерживающие
рождаемость: оптимизация баланса занятости и родительства, а также материальная
поддержка семьи. Медицинские исследования предлагают научные данные о сбережении
репродуктивного здоровья населения. Тогда как внимание специалистов в области
психолого-педагогических наук нацелено на конструктивные репродуктивные
установки в отношении семьи и родительства, которые выступают базисом
нормальной реализации репродуктивных планов. Таким образом, анализируемый
континуум представлен феноменами стереотипов в отношении семьи и родительства,
репродуктивных установок и убеждений.
Актуальность исследования подтверждается не только
тревожными демографическими данными, но и многочисленными исследованиями
репродуктивных планов и намерений населения. Например, за последние 10–15 лет
снизилось количество людей, считающих, что «человек не может быть по-настоящему
счастливым, если у него нет детей» (с 64 % до 55 %), и закономерно увеличилось
количество убеждённых в обратном – «человек может быть по-настоящему счастливым, не имея детей» (с 16 % до 28 %)
[Осипова, 2020]. Сведения о репродуктивных планах и установках молодёжи ещё
более пугающие. Лишь 18 % молодых людей видят «радость жизни в детях», 47 % не
согласны с традиционной установкой, что «наличие детей является залогом личного
и семейного счастья», а 14 % категорично отдают приоритет
«индивидуалистическим» (эгоистическим, гедонистическим) ценностям в противовес
родительству. При этом среди молодых людей, имеющих репродуктивные планы,
доминирует установка на малодетность (снижается ориентация на двудетность,
повышается ориентация на рождение только одного ребёнка) [Кораблева, 2024;
Ивченков, 2020]. Учеными доказано, что установки на репродукцию, на
родительство начинают формироваться в дорепродуктивных возрастных периодах и
обусловлены множеством факторов [Башкатов, 2021]. Учитывая масштабное
воздействие медийно-информационной среды на социализацию подрастающего
поколения, её необходимо признать важнейшим фактором возникновения и
подкрепления установок на родительство и семейственность у детей и молодёжи.
Понимание масштабов влияния медиа обуславливает
необходимость регулярной оценки того, как позиционируются темы родительства в
популярных среди детей и молодёжи медийно-информационных продуктах. Тематика
родительства и семейных отношений, представленная в популярной медиапродукции
среди детско-юношеской аудитории, рассматривается с точки зрения девиантологии.
То есть особый интерес вызывают негативные стереотипы популярной медиапродукции
в отношении родительства и семейственности.
Цель исследования – составление перечня негативных
стереотипов в отношении родительства и семейственности, циркулирующих в
популярной среди детей и молодежи медиапродукции, и первичная оценка отношения
детско-юношеской аудитории к выявленным стереотипам.
Обзор литературы
В предметное поле данного исследования следует включить
несколько тем. Во-первых, значимыми являются научные сведения о влиянии медийно-информационной
среды на репродуктивное здоровье и репродуктивные планы населения. При этом
особый интерес вызывают исследования такого влияния на детей, ценными являются
научные данные о формировании у подрастающего поколения установок, убеждений в
отношении семейственности и родительства.
Во-вторых, важны материалы о связи социальных стереотипов в
отношении семейственности, родительства и репродуктивных планов, реализуемого
репродуктивного поведения.
Следует оговориться, что под семейственностью будем понимать
ценностную приверженность интересам семьи на основе искренней любви и уважения
к семейным отношениям, исключая менеджерско-юридическое толкование в негативном
ключе (непотизм, кумовство, предоставление льгот родственникам и тому подобное).
Считаем справедливым утверждение Е. В. Поповой о том, что семейственность как
качество личности может и должно быть целью воспитательной работы [Попова,
2013, с. 265].
Под родительством понимается социальная роль родителя,
предполагающая воспитание, заботу о своём ребёнке, сопровождаемая переживанием
родительских чувств; родительство воплощается в отцовстве и материнстве
[Лущенко, 2014; Cornford, 2013].
Результаты многочисленных исследований подтверждают постулат
о том, что политика поддержки функционирования института семьи должна
предусматривать сопровождение и коррекцию репродуктивных планов молодёжи
[Гурко, 2019]. Научное сообщество подчёркивает, что на сегодняшний день
недостаточно осознаётся социокультурная роль медийно-информационной среды в
конструировании и репрезентации образа семьи [Мищенко, 2014; Coyne, 2018].
Очевидно, что ориентация на семейственность и родительство
по своей сути противоположны эгоистическим, гедонистическим, консьюмерным
(потребительским) жизненным смыслам и установкам на бездетность. Тем не менее
исследователи фиксируют агрессивную пропаганду в медиа сознательного и
добровольного отказа от родительства «во имя личного счастья и свободы»
[Белинская, 2018]. Тревожными являются сведения о том, что в период с 1991 г.
по 2022 г. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения числа фильмов и сериалов
с негативной тональностью по отношению к деторождению, к многодетности,
процессу воспитания детей в семье [Нештаев, 2024]. Н. О. Автаева, проводя
регулярные жанрово-тематические и частотные анализы медиапродукции об институте
семьи, показала, что медиаконтент, насыщенный негативными стереотипами о семье,
может деструктивно влиять на поведение медиапотребителей и существенно влиять
на демографическую ситуацию, то есть может быть весомым фактором девиантности в
сексуально-репродуктивной сфере [Автаева, 2021; 2022]. В научных публикациях
регулярно предлагаются к осмыслению результаты контент-анализов медиапродукции
с семейной тематикой [Желнина, 2019; Тюлюнова, 2020; Федорова, 2022],
оцениваются дискурсы сетевых сообществ вокруг семейных проблем [Козлова, 2020;
Neumann, 2024; Barnwell, 2023]. Учёные изучают символизацию образов семьи в
культуре [Флиер, 2014] и определяют характеристики либерального и
консервативного образа семьи в семейной политике государств, в медиаконтенте и
в представлениях обывателей [Писаренкова, 2020]. Однако систематизацию
негативных стереотипов о семье, представленных в медиапродукции (особенно в
популярной среди детско-юношеской аудитории), обнаружить не удалось.
В этой связи логичным видится осмысление феноменологии
социальных стереотипов и их влияния на убеждения, установки и поведение
личности. Под стереотипами будем понимать
«схематизированные модели оценок, сравнительно устойчивые
обобщённые представления об особенностях и поведении представителей той или
иной социальной группы» [Фань, 2021, с. 279]; активация стереотипов, в том
числе и негативных, оказывает воздействие на социальную жизнь [Фань, 2021, с.
279], превращая стереотипы в индивидуальные установки, закрепляясь в сознании
[Hummer, 2024]. Наряду с этим, специалистами в области психологии влияние
целенаправленной стереотипизации признаётся способом мощного
информационно-психологического воздействия на индивида (наряду с внушением,
агитацией, убеждением и проблематизацией), который заключается в формировании у
медиапотребителей представлений о «нормальности», повсеместной распространённости
и приемлемости определённых моделей поведения [Морозов, 2018]. Акцентируем
внимание, что «социальные стереотипы усваиваются очень рано и используются
детьми задолго до возникновения ясных представлений о тех группах, к которым
они относятся» [Агеев, 1986, с. 95], а мотивация к деторождению и стремление к
осознанному, ответственному родительству формируется преимущественно социальной
средой [Nachoum, 2023; Bittman, 2020; Szymanik-Kostrzewska, 2022].
Как было отмечено выше, стереотипы влияют на формирование в
сознании установок. Установки описываются учёными разнопланово: как механизм
преадаптации к неопределённому будущему, как предрасположенность к определённому
поведению, как склонность к совершению типичного поведения, как готовность к
выполнению поведенческих стереотипов. Продолжая логику, брачно-семейные
установки видятся как «набор социальных установок на семейные ценности, отношение
к браку, гендерные роли, рождение детей»; репродуктивные установки отражаются в
установках на деторождение или отказ от него; родительские установки
представляют собой «эмоциональную и ценностную готовность отцов и матерей к
взаимодействию со своими детьми» [Башкатов, 2021, с. 10–11].
В то же время центральными становятся вопросы о девиантном
родительстве и его связи с негативными стереотипами, убеждениями, установками в
отношении семейственности и деторождения. Весомый вклад в изучение причин девиантного
родительства (включающих и негативные стереотипы, установки, убеждения) внесли
М. А. Беляева [Беляева, 2012] и Н. П. Фетискин, В. В. Козлов [Фетискин, 2018].
Имеющиеся теоретические данные позволяют продолжить изучение
медиаконтента на предмет содержащихся негативных стереотипов в отношении
семейственности и родительства, а также изучение отношения подрастающего
поколения к таким стереотипам.
Методы исследования
Первый этап исследования представлял собой отбор для анализа
популярной в детско-юношеской среде медийно-информационной продукции с
тематикой семейственности и родительства. Для этого посредством мессенджеров и
социальных сетей было разослано письмо-приглашение принять участие в опросе
детей и молодёжи в возрасте 10–17 лет. Письмо-приглашение содержало
приветствие, указание на авторов и цель исследования, краткое описание
содержательных элементов опроса, благодарность откликнувшимся и ссылку на
Google-таблицу общего доступа для удалённого заполнения респондентами.
Письмо-приглашение распространялось среди так называемых
«родительских чатов» в мессенджерах и «родительских площадок» в социальных
сетях (для соблюдения законодательного и этического требования о необходимости
получения разрешения родителей на участие детей в опросах). Таким образом
родители посодействовали в получении нами ответов от 213-ти несовершеннолетних.
Вторым каналом сбора материала стало интервьюирование
студентами (специальность «Педагогика и психология девиантного поведения» в
Кубанском государственном университете) указанной категории несовершеннолетних
в ближайшем окружении. Также предварительно было получено согласие родителей на
участие каждого ребёнка в опросе. Таким образом были зафиксированы ответы 138
несовершеннолетних. Выборку составил 351 человек в возрасте 10–17 лет; из них –
204 девочки/ девушки и 147 мальчиков/юношей.
Google-таблица и вопросы интервью были достаточно простыми и
понятными для респондентов – необходимо было назвать предпочитаемый в момент
опроса медиапродукт («который сейчас тебе нравится больше всех») в нескольких
категориях: художественный фильм, мультипликационный фильм, песня, компьютерная
игра, сообщество в социальных сетях (подписки, группы, блогер-каналы и тому
подобное), интернет-сайт, на котором чаще всего респондент проводит свободное
время. В итоге был получен список из 624 медиапродуктов, популярных среди детей
и юношей (некоторые медиапродукты повторялись в ответах и были учтены как одна
позиция).
Подавляющая часть медиапродуктов была содержательно знакома
автору статьи и помогавшим студентам, неизвестные медиапродукты были
просмотрены (прослушаны, проиграны) для понимания изучаемого медиаматериала. Из
всего массива предпочитаемых медиапродуктов были отобраны те из них, которые
максимально явно затрагивают тему семейственности и родительства (тема семейных
и родительско-детских отношений, тема взаимоотношений супругов в момент
рождения и появления детей в семье, тема беременности и репродуктивной
культуры, тема многодетности и другие). Далее в соответствии с целью настоящего
исследования были отобраны медиапродукты (116 наименований) с позиционированием
семейственности и родительства в негативном контексте, то есть семейственность
и родительство преподносились с осуждением, глумлением, пренебрежением и
использованием ругательно-уничижительных ярлыков.
Вторым этапом исследования стал контент-анализ полученных на
предыдущем этапе 116 медиапродуктов, позиционирующих семейственность и
родительство в явно негативном ракурсе: 22 художественных фильмов, 5
мультипликационных фильмов, 58 песен (и музыкальных видеоклипов), 7
компьютерных игр, контент 19 сообществ в социальных сетях (подписки, группы,
блогер-каналы и тому подобное), контент 5 интернет-сайтов.
Контент-анализ медиапродуктов с негативной тональностью в
отношении семейственности, родительства осуществлялся посредством аннотирования
единиц контент-анализа, смысловых единиц, обобщения полученных данных.
Контент-анализ был формализован с помощью классификаторов единиц анализа и
бланков анализа. Основные смысловые единицы: запланированное/незапланированное
деторождение, отношение к беременности и деторождению,
бездетная/детная/многодетная семья, родительско-детские отношения,
трудности/положительные стороны родительства. Задача заключалась в составлении
перечня негативных стереотипов относительно семейственности и родительства в
медиапродукции, популярной среди детей и молодежи. Подчеркнём, что изначально
не было предзаданных кодов и категорий стереотипов, перечень негативных
стереотипов был выведен индуктивно из полученных смысловых данных; группировка
стереотипов велась с опорой на имеющиеся теоретические сведения об изучаемых
феноменах. Также в задачи входило определение частотности негативных
стереотипов в медиапродуктах.
На третьем этапе исследования полученный перечень негативных
стереотипов в популярной медиапродукции стал основанием разработки анкеты,
ориентированной на выяснение отношения детей и молодёжи к данным стереотипам.
Анкетирование проводилось с помощью отправки ссылки на анкету по контактам
родителей, которые ранее согласились на участие своих детей в исследовании.
Анкета сопровождалась письмом, разъясняющим цели данного опроса и его краткое
описание.
Аналогичная работа была проведена студентами-интервьюерами с
ранее опрошенными респондентами (после получения согласия родителей).
Анкета была оформлена с помощью Google Форм. Анкетный опрос
был составлен по принципу, отчасти схожему с методом семантического дифференциала,
и включал 5-бальные биполярные оценочные шкалы. В качестве противоположных
полюсов, заданных посредством суждений, антагонистичных по смыслу, выступали, с
одной стороны, найденные негативные стереотипы в отношении семейственности,
родительства, и высказывания о семейственности, родительстве в положительном
ракурсе (семантически противоположные «негативным» суждениям) – с другой
стороны. Шкалы в опросном листе предъявлялись не по блокам стереотипов, а
перечислялись в случайном порядке (были смешаны). Полюса шкал в опроснике
систематически менялись местами, чтобы у респондентов не создавалось ощущение,
что какая-то сторона шкалы условно позитивная, а какая-то негативная.
Такое конструирование анкеты (по принципу теста Ч. Осгуда
[Osgood, 1957]) позволяет оценивать «слаборефлексируемые структуры сознания, …
которые служат почвой для формирования стереотипов и ценностных представлений,
… и упрощает математическую обработку мнения респондентов» [Сикевич, 2016, с.
120], а также снимает проблему социальной желательности ответов [Новиков,
2011].
В итоге третьего этапа исследования было собрано 202 анкеты
(от 135 девочек/девушек и 67 мальчиков/юношей).
Следует оговориться, что результаты третьего этапа
исследования не претендуют на выявление взаимосвязи или влияния исследуемых
переменных (негативных стереотипов в медиа и с негативными убеждениями,
установками индивидов в отношении семейственности, родительства). Основной
задачей этого этапа следует признать апробацию анкеты и пилотное изучение
распространённости среди детско-юношеской аудитории негативных убеждений и
представлений, сходных с негативными стереотипами в популярных медиа.
Результаты исследования
Анализ содержания медиапродукции с тематикой семейственности
и родительства в негативной тональности, позволил составить перечень
стереотипов. Данные стереотипы можно сгруппировать следующим образом:
− блок стереотипов, связанных с деторождением;
− блок стереотипов, связанных со статусом родителей и
супружескими отношениями;
− блок стереотипов, связанных с родительско-детскими
отношениями и отношениями сиблингов;
− блок стереотипов, связанных с финансово-бытовым положением
семьи с детьми.
В блок стереотипов, связанных с деторождением, входят:
стереотип примитивно биологизаторского толкования родительства, семейственности
(вариативные сентенции: «размноженцы», «плодячки», «коровы, рожающие, чтобы их
доили», «отложила личинку»); стереотип о сложном протекании беременности
(«болезненность» беременности); стереотип о высоком риске смерти во время
беременности и в родах; стереотип об ухудшении здоровья матери после рождения
ребёнка («каждое последующее рождение ребёнка сильнее ухудшает здоровье
матери»); стереотип об ухудшении внешнего вида матери после рождения ребёнка
(«каждое последующее рождение ребёнка сильнее ухудшает внешний вид матери»);
стереотип об ухудшении внешнего вида отца после рождения ребёнка; стереотип о
невыносимых муках при родах и послеродовом восстановлении; стереотип об
обязательной послеродовой депрессии;
стереотип о непреодолимых и длительных
сложностях в процессе ухода за младенцем (вариативные сентенции: «первые
месяцы с младенцем-сущий ад», «младенец – это пытка для родителей»); стереотип о
непереносимости детского плача; стереотип о невыносимом режиме без сна у
родителей; стереотип о брезгливости к детским испражнениям; стереотип об утрате
родителями возможностей и стремления к гигиене и уходу за собой (вариативные
сентенции: «невозможность сделать прическу и маникюр», «редко принимают душ
из-за нехватки времени», «в вечно обгаженной ребёнком одежде»); стереотип о
мучительных гастрономических ограничениях у родителей маленьких детей
(вариативные сентенции: «надо есть неаппетитную и невкусную детскую еду», «надо
есть объедки с детского стола», «в кафе и ресторанах не любят посетителей с
маленькими детьми», «придется полностью отказаться от алкоголя» и другие).
В блок стереотипов, связанных со статусом родителей и
супружескими отношениями, включены: стереотип об отдалении супругов и разладе в
сексуальных взаимоотношениях между супругами после рождения детей; стереотип о
мучительности изменения привычек у родителей; стереотип об утрате родителями
«свободы» (вариативные сентенции: «прикованность к дому», «невозможность
путешествовать и развлекаться», «отмена хобби», «чем больше детей – тем меньше
времени пожить для себя» и т. д.); стереотип о невозможности дальнейшего
развития родителей (повышения уровня образования, культуры и тому подобное); стереотип
об утрате родителями возможности путешествовать; стереотип о повышенной
социальной уязвимости и личностной тревожности родителей (вариативные
сентенции: «другие будут тобой манипулировать, используя твоего ребёнка», «с
появлением ребёнка навсегда исчезает покой и прирастают тревоги»); стереотип о
глупости, недальновидности многодетных родителей; стереотип о социальном
неблагополучии, маргинальности многодетных семей.
В блок стереотипов, связанных с родительско-детскими
отношениями и отношениями сиблингов, включены: стереотип о возможных
ограничениях здоровья и неполноценного развития будущего ребёнка (вариативные
сентенции: «вдруг ребёнок родится больным и ты намучаешься», «твой ребёнок
может быть хуже других»); стереотип о непредсказуемости результатов воспитания
(вариативные сентенции: «воспитывай-не воспитывай, тебя потом дети сдадут в дом
престарелых», «от тебя может ничего не зависеть и всё равно вырастет моральный
урод»); стереотип об обязательности конфликтов и конкурирования между
сиблингами (братьями и сёстрами); стереотип об обязательности конфликтов и
взаимного непонимания между родителями и детьми (особенно в подростковом
возрасте); стереотип об отсутствии времени у многодетных родителей для
полноценного развития всех детей; стереотип об «эксплуатации труда» старших
детей.
В блок стереотипов, связанных с финансово-бытовым положением
семей с детьми, входят: стереотип о неминуемом финансовом крахе при рождении
ребёнка (вариативные сентенции: «дети – помеха работе», «у семейных пар с
детьми резко падают доходы», «работодатели не хотят принимать на работу женщин,
планирующих деторождение», «финансовые траты на детей непосильны»); стереотип об
обязательном завершении карьеры одного из родителей при рождении детей;
стереотип о непосильных регулярных затратах (сентенции: «будешь постоянно
просить чужие поношенные детские вещи», «родители себе ничего не смогут купить
– всё идет только на детей»); стереотип об обязательности конфликтов, связанных
с бытом («от детей вечная грязь в доме», «дети и стильный интерьер
несовместимы» и тому подобное); стереотип о бытовой неустроенности при
многодетности.
Стоит оговориться отдельно: представленный перечень суждений
составлен так, чтобы была очевидной негативная тональность и чрезмерное
преувеличение некоторых действительно имеющихся трудностей, обусловленных
рождением и воспитанием детей. Данный перечень нисколько не отрицает возможные
проблемы (типа тяжелого протекания беременности, послеродовой депрессии,
прибавления в весе и тому подобное) и очевидные изменения жизни супругов после
рождения детей (смена привычек, изменения режима сна и т. д.). Акцентируем
внимание, что выявленные стереотипы поданы в анализируемой медиапродукции через
апелляцию к отрицательным эмоциям медиапотребителя: семейные трудности и
текущие дела преподнесены как невыносимые страдания и чуть ли неимоверные муки
родителей, как ущерб для родителей и «окончание счастья» супругов. При этом
положительные стороны отцовства, материнства, семейственности практически не
затрагиваются или подаются размыто, неявно, с существенным перевесом негатива.
Определение частоты определённых стереотипов в
медиапродукции осуществлялось с использованием формулы: FI = (N/T) * 100, где
FI – частотный индекс, N – количество появлений стереотипа в массиве
медиапродукции с негативной тональностью в отношении семейственности,
родительства, T – общее количество возможностей появления стереотипа в массиве
медиапродукции с негативной тональностью в отношении семейственности,
родительства. Полученное число (от 0 до 1) переводится в проценты. Частота
стереотипов в массиве медиапродукции с негативной тональностью в отношении
семейственности, родительства отображена в Таблицах 1-4.
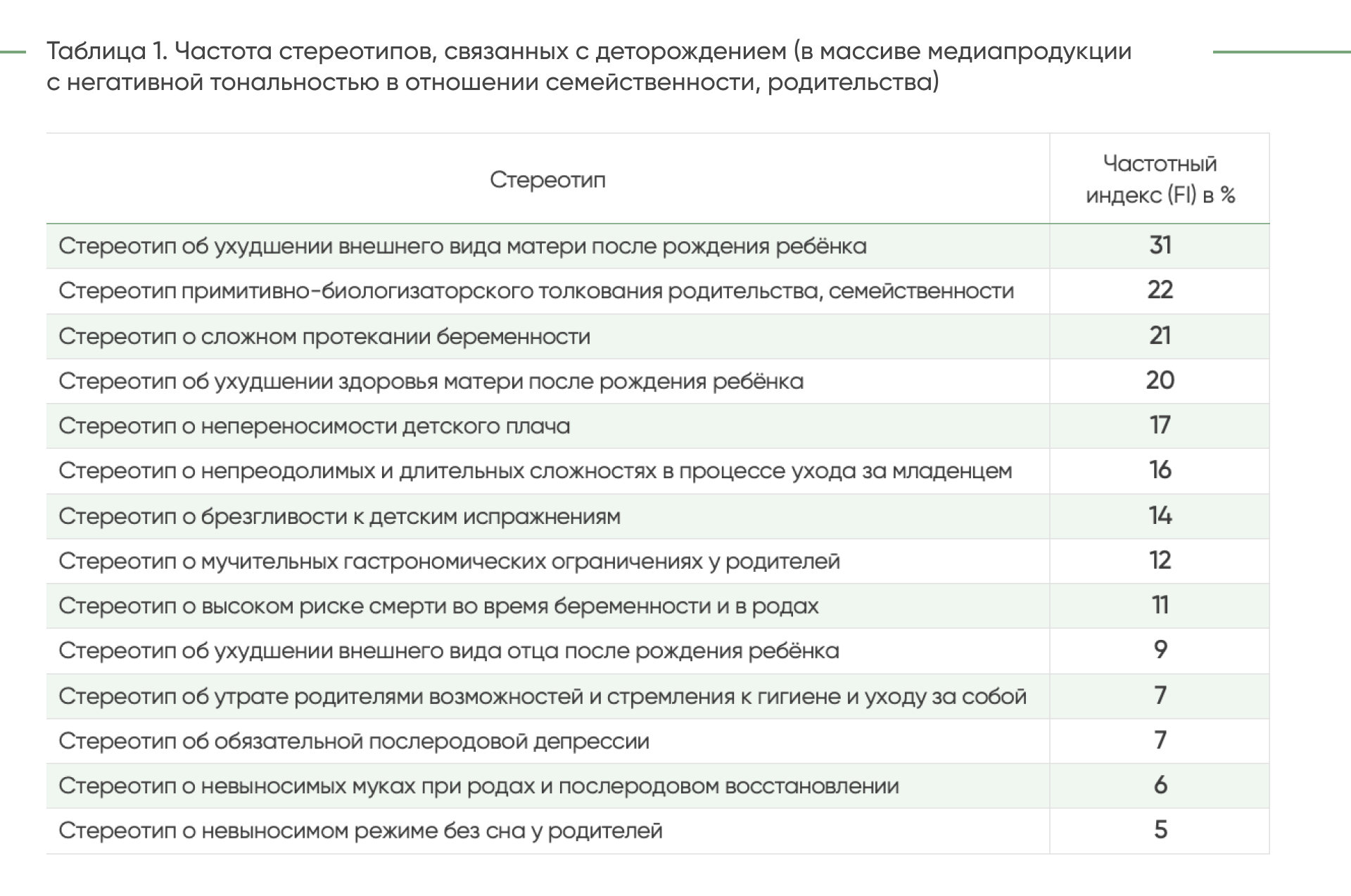
Таблица 1 демонстрирует, что наиболее распространённым
стереотипом в данном блоке является стереотип об ухудшении внешнего вида матери
после рождения ребёнка. Также к наиболее часто встречающимся можно отнести
стереотип примитивно-биологизаторского толкования родительства,
семейственности, стереотип обязательных осложнений при беременности, стереотип
об ухудшении здоровья матери после рождения ребёнка.
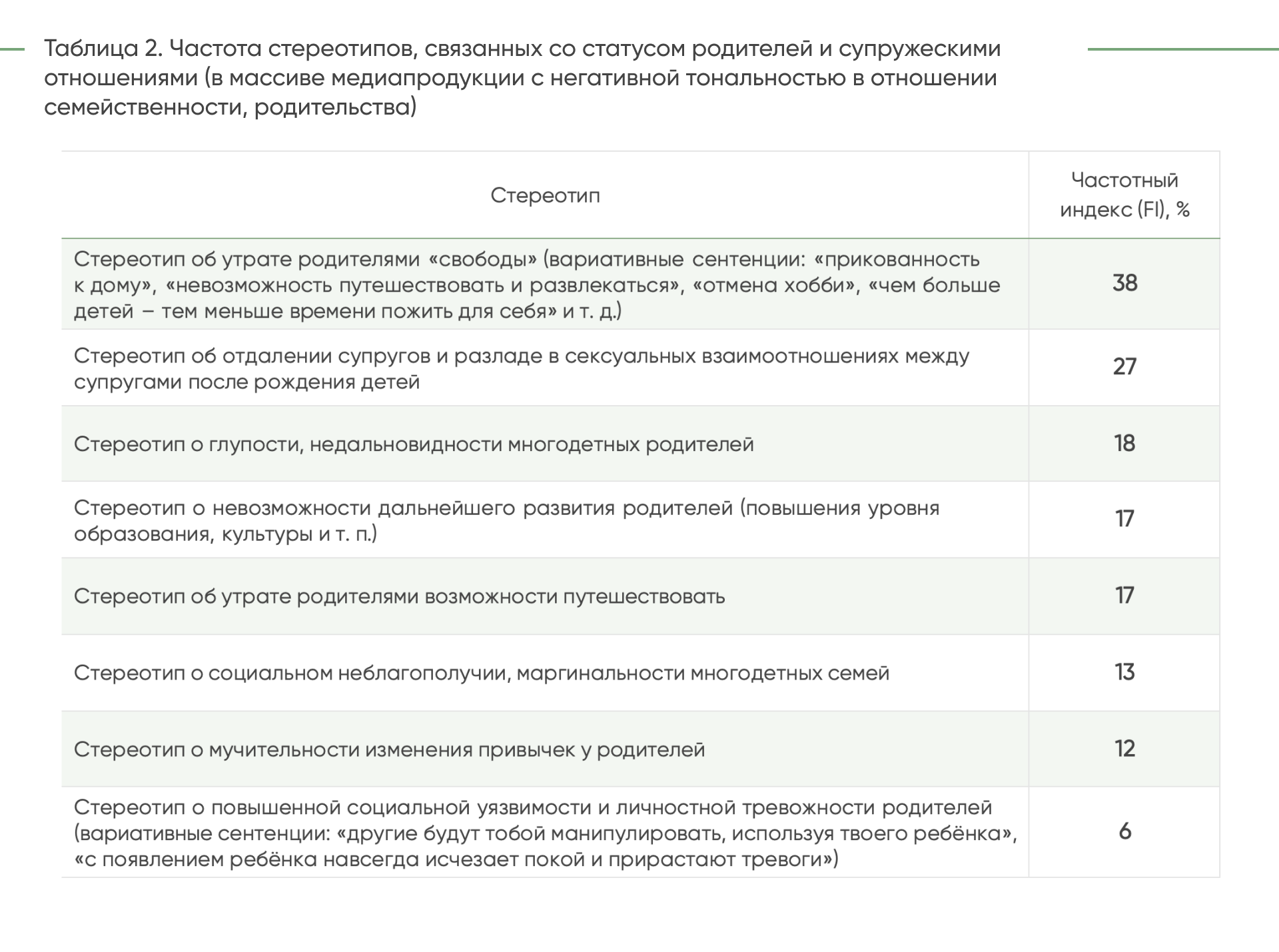
Как показано в Таблице 2, в популярной среди детей и
молодежи медиапродукции наиболее частыми стереотипами, связанными со статусом
родителей и супружескими отношениями, являются: стереотип об утрате родителями
«свободы» и стереотип об отдалении супругов и разладе в сексуальных
взаимоотношениях между супругами после рождения детей (акцентируем: эта
тематика отчётливо прослеживается в медиапродукции, которой юные респонденты
пользуются и называют предпочитаемой!).
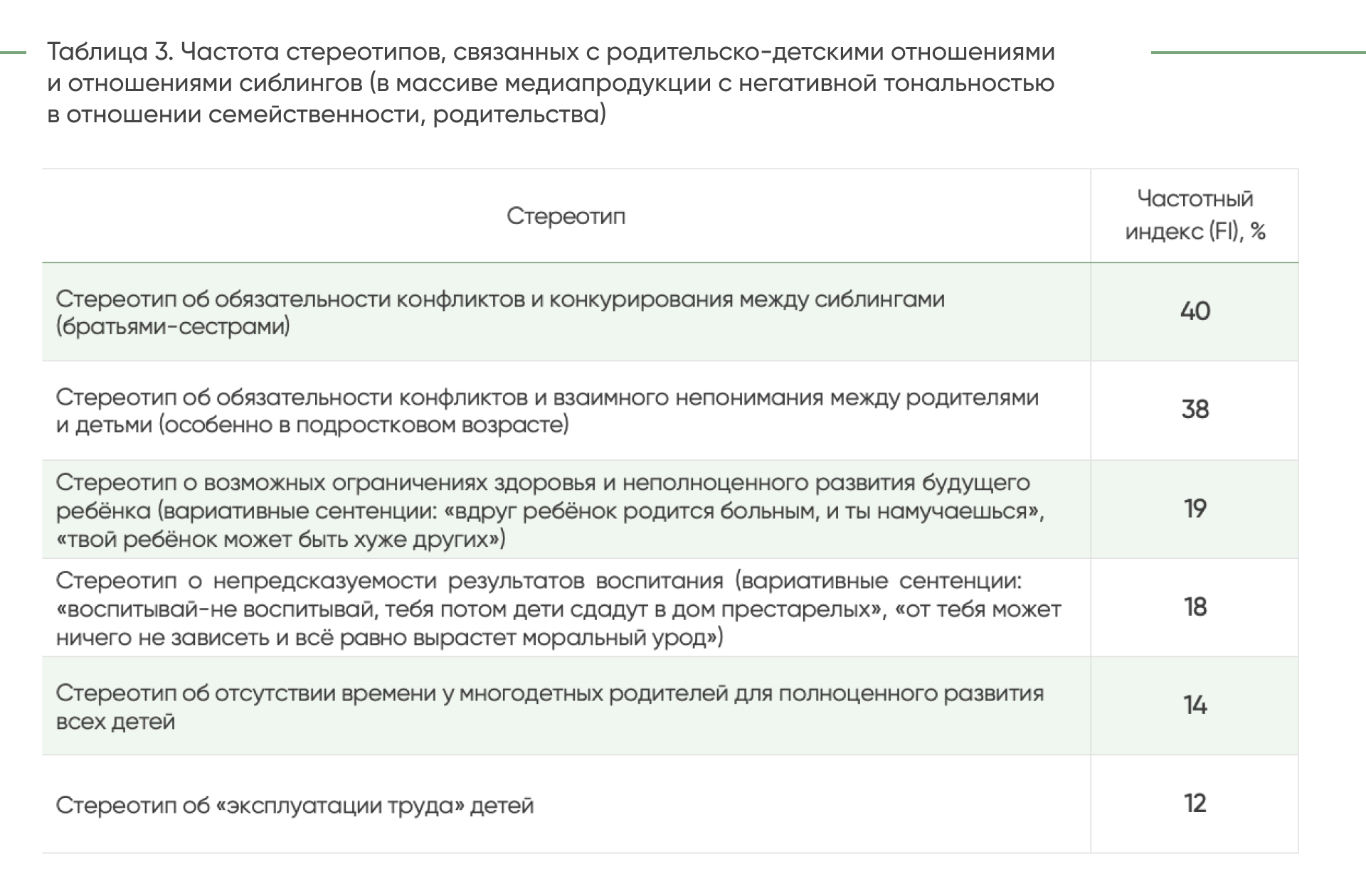
Среди стереотипов, связанных с родительско-детскими
отношениями и отношениями сиблингов, наиболее частыми являются стереотип об
обязательности конфликтов и конкурирования между сиблингами и стереотип об
обязательности конфликтов и взаимного непонимания между родителями и
подростками (Таблица 3).
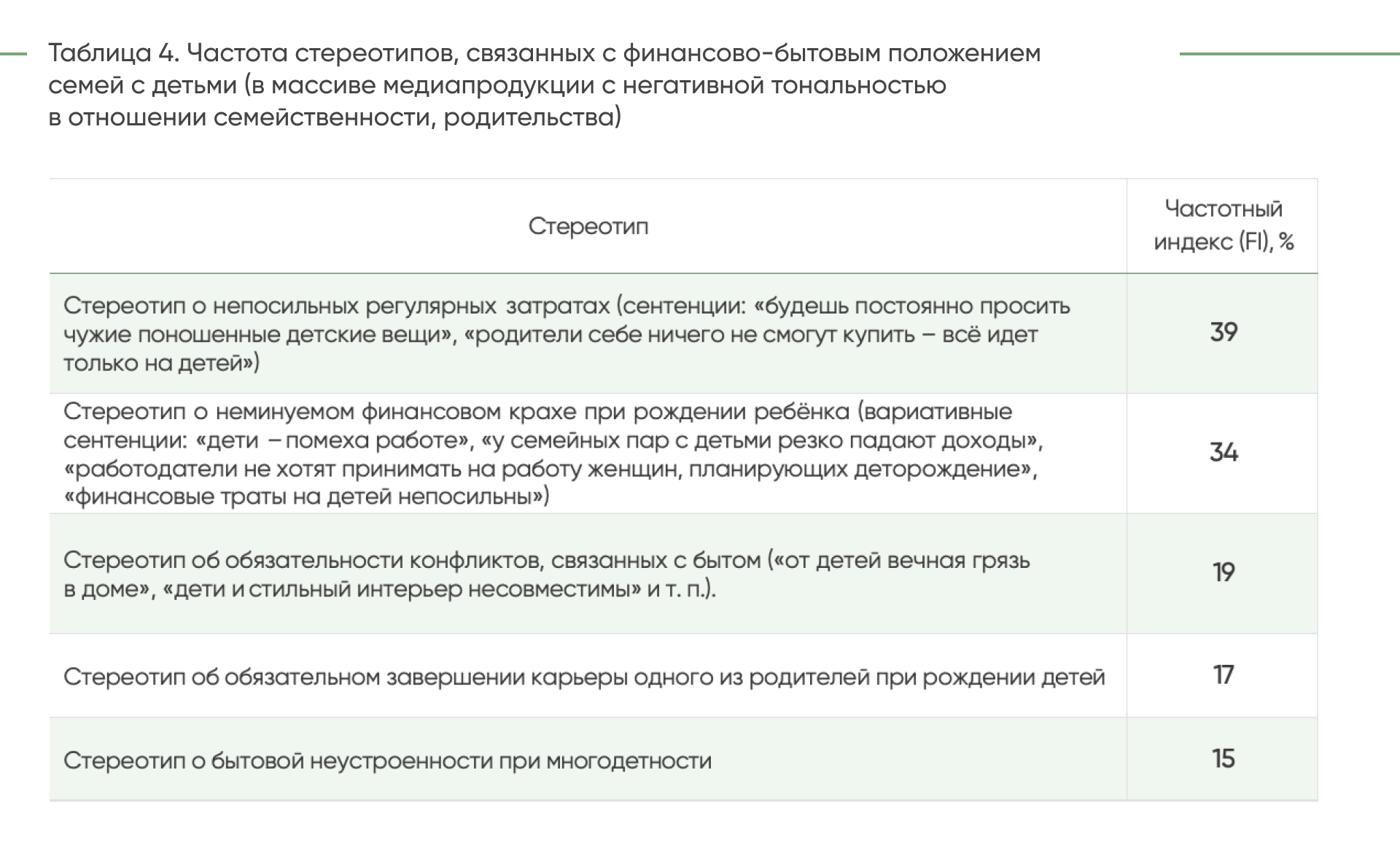
Согласно Таблице 4, наиболее частыми стереотипами о
финансово-бытовом положении семей с детьми являются стереотипы о непосильных
регулярных затратах и о неминуемом финансовом крахе при рождении ребёнка.
Особо следует отметить тот факт, что в подавляющей части
анализируемой медиапродукции (почти в 2/3) одномоментно представлены более чем
5 стереотипов, то есть предпочитаемые детско-юношеской аудиторией медиапродукты
насыщены антинатальными и «антисемейственными» посылами.
Далее респондентам, участвовавшим в опросе по установлению
популярной медиапродукции, предлагалось через анкету высказать своё отношение к
выявленным стереотипам в отношении семейственности и родительства. Нами
осознавалось, что анкетирование не позволит установить взаимосвязь или влияние
медиапродуктов на формирование негативных убеждений у респондентов; целью
анкетирования выступало пилотное изучение распространённости среди юных
медиапотребителей негативных убеждений-стереотипов об институте семьи и
родительства.
По этическим соображениям вопросы про некоторые стереотипы
респондентам не задавались (например, про стереотип о высоком риске смерти
женщин в родах, про стереотип о родительстве как о примитивном исполнении
биологической функции размножения и другие).
Результаты представлены в Таблицах 5-8.
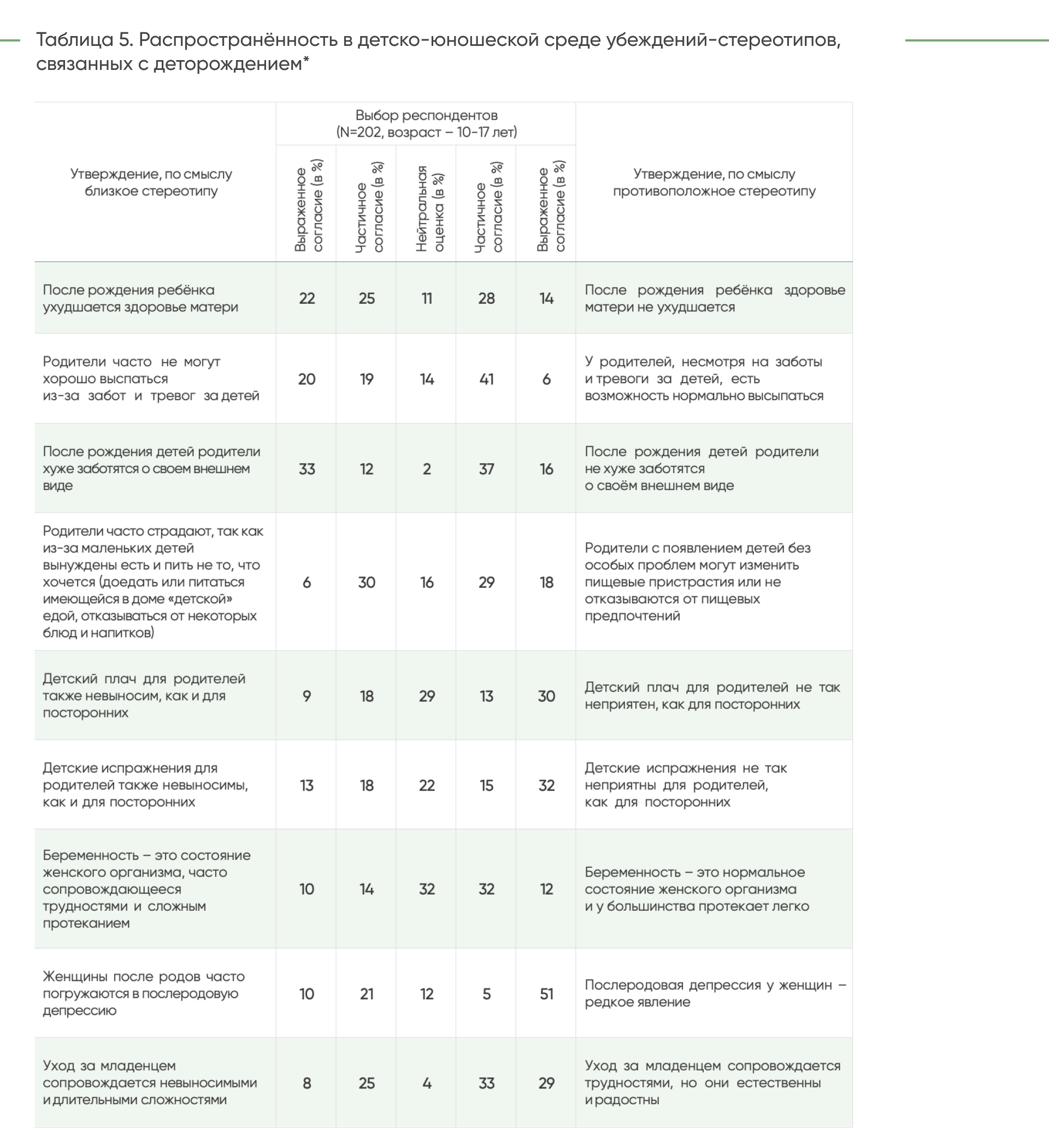
* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих
о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины
нейтральных ответов (в %).
Как видно из Таблицы 5, у испытуемых наиболее частыми
убеждениями относительно деторождения (согласующимися с негативными
стереотипами о семейственности и родительстве) являются: убеждение об ухудшении
здоровья матери после рождения ребёнка, убеждение о постоянном недосыпе
родителей, убеждение об утрате родителями возможностей и стремления к гигиене и
уходу за собой.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих
о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины
нейтральных ответов (в %).
Таблица 6 демонстрирует рейтинг убеждений относительно
супружеских отношений и социального статуса родителей. Первые рейтинговые
позиции занимают: убеждения об отдалении супругов друг от друга с рождением
ребёнка, о постоянном пребывании родителей в изматывающей тревоге, о глупости и
недальновидности многодетных родителей, об утрате свободы родителями при
рождении детей.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих
о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины
нейтральных ответов (в %).
Таблица 7 отображает убеждения относительно
родительско-детских отношении и отношений между сиблингами. Наибольшее согласие
опрошенные выразили с суждениями о высоком риске неудовлетворительных
результатов семейного воспитания, о нехватке времени многодетных родителей на
развитие каждого ребёнка, о неотвратимости постоянных конфликтов между
сиблингами, между родителями и детьми подросткового возраста.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих
о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины
нейтральных ответов (в %).
Таблица 8 констатирует, что наиболее частыми убеждениями
относительно финансово-бытового положения семей с детьми являются: убеждение в
непосильных затратах родителей при рождении более чем одного ребёнка, убеждение
в резком ухудшении финансового положения при рождении ребёнка, убеждение в
худшей бытовой обустроенности многодетных семей (по сравнению с малодетными
семьями).
В целом все таблицы свидетельствуют о том, что достаточно
большое количество респондентов частично или полностью согласны с негативными
стереотипами относительно семейственности и родительства, по отдельным позициям
согласие с «негативными» суждениями высказали более половины опрошенных.
При устном, непосредственном опросе удалось зафиксировать
некоторые дополнительные суждения и эмоциональные отклики части респондентов.
Замечены несколько важных деталей: позитивные представления юных респондентов о
родительстве очень эфемерны, «не осязаемы» и не совсем понятны респондентам
(явная социальная желательность ответов и шаблонные, неуверенные, размытые
высказывания о счастье-радости родителей). А вот негативные представления
эмоциональны, предельно конкретизированы и детализированы, с ярко выраженной
эгоистично-гедонистической сутью.
Заключение
Результаты исследования показывают, что обозначенный
перечень посылов из медиапродукции, формирующих негативные представления о
семейственности и родительстве, можно в полной мере признать стереотипами для
детско-юношеской аудитории. Ведь стереотипы, разделяемые социальными группами,
являются образами, закреплёнными в сознании. Данное исследование показало, что
с большей частью стереотипов детско-юношеская аудитория согласна. Особенность
стереотипов – как элементов сознания –заключается в высокой степени их
воспроизводимости через реальное поведение индивидов. В этой связи необходимо
обозначить риски. Признавая тот факт, что отклоняющееся от нормы родительство
(девиантное родительство) или сознательный отказ от него обусловлены
множественными обстоятельствами, всё же подчеркнем – медийно-информационная
среда на сегодняшний день является мощнейшим фактором формирования личности,
особенно для детей и молодёжи.
Деструктивность от насыщения медиаконтента обозначенными
стереотипами может проявляться по-разному. Негативные стереотипы могут
детерминировать восприятие и представление о семейных, родительско-детских
отношениях. Искажённое восприятие, отрицание чуда деторождения и счастья
родительства становятся базой для предрассудков и агрессии в отношении семейных
людей, родителей, детей.
Негативные стереотипы потенциально могут вызвать
неосознаваемый или сознательный отказ от деторождения или многодетности, вплоть
до самозапретов. Стереотипы, воплощаемые в установках, могут деструктивно
влиять на рациональное стремление молодёжи к сохранению репродуктивного
здоровья.
Не стоит отрицать и риск нормализации девиантного
родительства, воспринимаемого как закономерное следствие невыносимых мук и
лишений, обусловленных рождением детей.
Может проявляться «эффект подтверждения стереотипа»,
заключающийся в дискомфорте от опасений, беспокойства индивида в связи с его
принадлежностью к стереотипизируемой категории, что является почвой для
семейных неурядиц и конфликтов (например, при многодетности, во
взаимоотношениях сиблингов, во взаимоотношениях родителей с детьми-подростками и
так далее). Имеются серьёзные опасения, что среди подрастающего поколения
усугубится доминирование гедонистических и внесемейных ценностей над семейными.
Негативные установки относительно родительства и семейственности вероятнее
всего ослабеют при рождении ребёнка в силу биологической обусловленности родительской любви (в норме). Однако они могут
осложнять полноценное выполнение всех родительских функций. Подобные установки
могут негативно сказываться в ситуациях повторных браков при выстраивании отношений
между детьми от предыдущего брака и новым супругом/супругой, не имеющего/-щей
опыта реального родительства. Кроме того, существует опасность, что подобные
стереотипы могут затруднять формирование профессионально важных качеств у пока
бездетных будущих (студентов) и молодых специалистов, призванных работать с детско-юношеской аудиторией.
Считаем, что полученные результаты могут использоваться в
процессе целенаправленного развития медийно-информационной грамотности у
несовершеннолетних, при уточнении содержания медиаобразовательных методик, а
также при реализации недавно введённого в школьное образование внеурочного
курса «Семьеведение».
Очевидно, что для установления взаимосвязи, влияния
стереотипов на репродуктивные планы, репродуктивное поведение необходимы
междисциплинарные научные изыскания с высокой степенью конкретизации и очень
масштабной выборкой. Перспективным считаем сравнение убеждений, представлений в
отношении семейственности, родительства у юных респондентов – потребителей
медиапродукции с антисемейными нарративами и потребителей медиаконтента с
пронатальной тематикой и традиционными семейными ценностями. Кроме того,
интерес в данном исследовательском направлении представляет сравнение между
собой гендерных и возрастных групп внутри детско-юношеской аудитории. Ещё одним
направлением продолжения данного исследования видится использование метода
семантического дифференциала для определения видов и структуры стереотипов в
отношении семейственности, родительства.
Список литературы
1. Автаева
Н. О. Популяризация ценностей семьи и родительства в блогосфере // Знак:
проблемное поле медиаобразования. - 2021. - № 3(41). - С. 77–85.
2. Автаева
Н. О. Семейные ценности в рекламном дискурсе телевидения и Интернета // Вестник
Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. - 2022.
- № 4. - С. 64–72.
3. Агеев В.
С. Психологическое исследование социальных стереотипов // Вопросы психологии. -
1986. - № 1. - С. 95–102.
4. Башкатов
С. А. Анализ отечественных диссертационных исследований, посвящённых
психологическому феномену установки / С. А. Башкатов, А. А. Шахов //
Психология. Психофизиология. - 2021. - № 2. - С. 5–16.
5. Белинская
Д. В. Социальный портрет чайлдфри // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Общественные науки. - 2018. - № 13. - С. 12–19.
6. Беляева
М. А. Девиантное родительство в контексте репродуктивной культуры современной
семьи // Знание. Понимание. Умение. - 2012. - № 3. - С. 207–212.
7. Гурко Т.
А. Представления студентов в отношении родительства и социальных ролей мужчин и
женщин // Социологическая наука и социальная практика. - 2019. - № 2 (26). - С.
65–80.
8. Желнина
Е. В. Репрезентация семейной жизни в отечественных кинофильмах: результаты
контентанализа / Е. В. Желнина, Л. Н. Галиуллова // Азимут научных
исследований: педагогика и психология. - 2019. - № 4 (29). - С. 69–76.
9. Ивченков
С. Г. Особенности репродуктивных установок современной молодёжи: мнения
экспертов и реальность / С. Г. Ивченков, М. С. Ивченкова // Alma Mater (Вестник
высшей школы). - 2020. - № 11. - С. 36–44.
10. Козлова Н.
Н. Отцы и дети: дискурсивные стратегии сетевых сообществ в современной России /
Н. Н. Козлова, С. В. Рассадин // Вестник ТвГУ. Серия: Философия. - 2020. - № 4.
- С. 117–125.
11. Кораблева
О. В. Семья и жизненные планы молодёжи: опыт социологического исследования / О.
В. Кораблева, С. В. Явон // Russian Studies in Culture and Society. - 2024. - Т.
8, № 1. - С. 4–17.
12. Лущенко Э.
М. К вопросу о понятии родительство и его сущности / Э. М. Лущенко, С. И.
Некрасов // Учёные записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2014.
- № 2.
13. Мищенко В.
А. Содержательные основы образа российской семьи и их репрезентация в СМИ //
Теории и проблемы политических исследований. - 2014. - № 1. - С. 56–63.
14. Морозов К.
Е. Психологические механизмы воздействия пропаганды СМИ / К. Е. Морозов, О. А.
Питько // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. - 2018. - № 2 (31). - С. 69–73.
15. Нешатаев А.
В. Российский кинематограф о семье как инструмент поддержки пронаталистской политики
/ А. В. Нешатаев, А. С. Жерлыгин, Д. С. Кулаков, Г. Р. Нагоев // Поиск:
Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. - 2024. - № 1 (102).
- С. 93–101.
16. Новиков А.
Л. Метод семантического дифференциала: теоретические основы и практика
применения в лингвистических и психологических исследованиях / А. Л. Новиков,
И. А. Новикова // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2011.
- № 3. - С. 63–71.
17. Осипова И.
Репродуктивные установки россиян и отношение к государственным мерам поддержки
рождаемости // Демографическое обозрение. - 2020. - Т. 7, № 2. - С. 97–120.
18. Писаренкова
С. Е. «Семейные ценности» и идеология: метафорическая модель семьи в
либеральной и консервативной картине мира // Казанская наука. - 2020. - № 2. - С.
107–110.
19. Попова Е.
В. Семейственность: концептуализация понятия / Е. В. Попова, А. П.
Коробейникова // XIX Уральские социологические чтения: региональные особенности
разработки и реализации социальной политики: сб. мат. Всероссийской научно-практ.
конф. [Екатеринбург, 14–16 марта 2013 г.]. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та,
2013. - С. 262–265.
20. Сикевич З.
В. Метод семантического дифференциала в социологическом исследовании (опыт
применения) // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. - 2016. - Вып. 3. - С.
118–128.
21. Тюлюнова В.
В. Образ семьи в современном российском кинематографе в оценках экспертов //
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные
науки. - 2020. - № 2 (58). - С. 134–142.
22. Фань Л.
Стереотипы: понятие, свойства, модели когнитивной обработки и их влияние //
Образование и право. - 2021. - № 11. - С. 276–280.
23. Федорова Е.
Д. Отношение молодёжи к образу семьи в современном кинематографе / Е. Д.
Федорова, Д. В. Яковлева // Наукосфера. - 2022. - № 9 (1). - С. 140–143.
24. Фетискин Н.
П. Трудные дети / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов. - Москва: Институт
консультирования и системных решений, 2018. - 544 с.
25. Флиер А. Я.
Историческая эволюция социальных функций семьи и образы их символизации в
культуре / А. Я. Флиер, Т. В. Глазкова // Обсерватория культуры. - 2014. - № 6.
- С. 23–29.
26. Barnwell A., Neves B. B., Ravn S.
Captured and captioned: Representing family life on Instagram // New Media
& Society. - 2023. - № 25(5). - P. 921–942.
27. Bittman M., Pixley J. The Double Life
of the Family: Myth, Hope & Experience. London; New York: Routledge.
Bittman, Michael & Pixley, Jocelyn. - 2020. - 313 p.
28. Cornford J., Baines S., Wilson R.
Representing the family: How does the state 'think family'? // Policy &
Politics. - 2013. - № 41. - P.1–18.
29. Coyne S. M., Padilla-Walker L. M.,
Holmgren H. G., Davis E. J., Collier K. M., Memmott-Elison M. K., Hawkins A. J.
A meta-analysis of prosocial media on prosocial behavior, aggression, and empathic
concern: A multidimensional approach // Developmental Psychology. - 2018. - 54(2).
- P. 331–347.
30. Hummer H. Motherhood myths and
mystiques: How childless women navigate cultural beliefs about motherhood //
Journal of Marriage and Family. - 2024. - Vol. 86, Iss. 4. - P. 1098-1118.
31. Nachoum R., Moed A., Madjar N.,
KanatMaymon Y. Parents’ childbearing motivations, parenting, and child
adjustment: From pregnancy to 20-months postpartum // Journal of Marriage and
Family. - 2023. - № 85 (4). - P. 898–922.
32. Neumann D., Rhodes N. Morality in
social media: A scoping review.// New Media & Society. - 2024. - № 26(2). -
P. 1096–1126.
33. Osgood Ch. E., Suci G. J., Tannenbaum
P. H. The measurement of meaning. University of Illinois Press. - 1957. - 342
p.
34. Szymanik-Kostrzewska A., Michalska P.
All joy and less fun: Maternity difficulties and limitations in the perception
of Polish mothers // Couple and Family Psychology: Research and Practice. - 2022.
- № 11(4). - P. 332–349.
Оригинал публикации: Книжникова С. В. Педагогические риски,
обусловленные стереотипами в отношении родительства и семейственности //
Ярославский педагогический вестник. - 2024. - № 6 (141). - С. 55–70. - http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-6-141-55.
https://elibrary.ru/XIKVVM