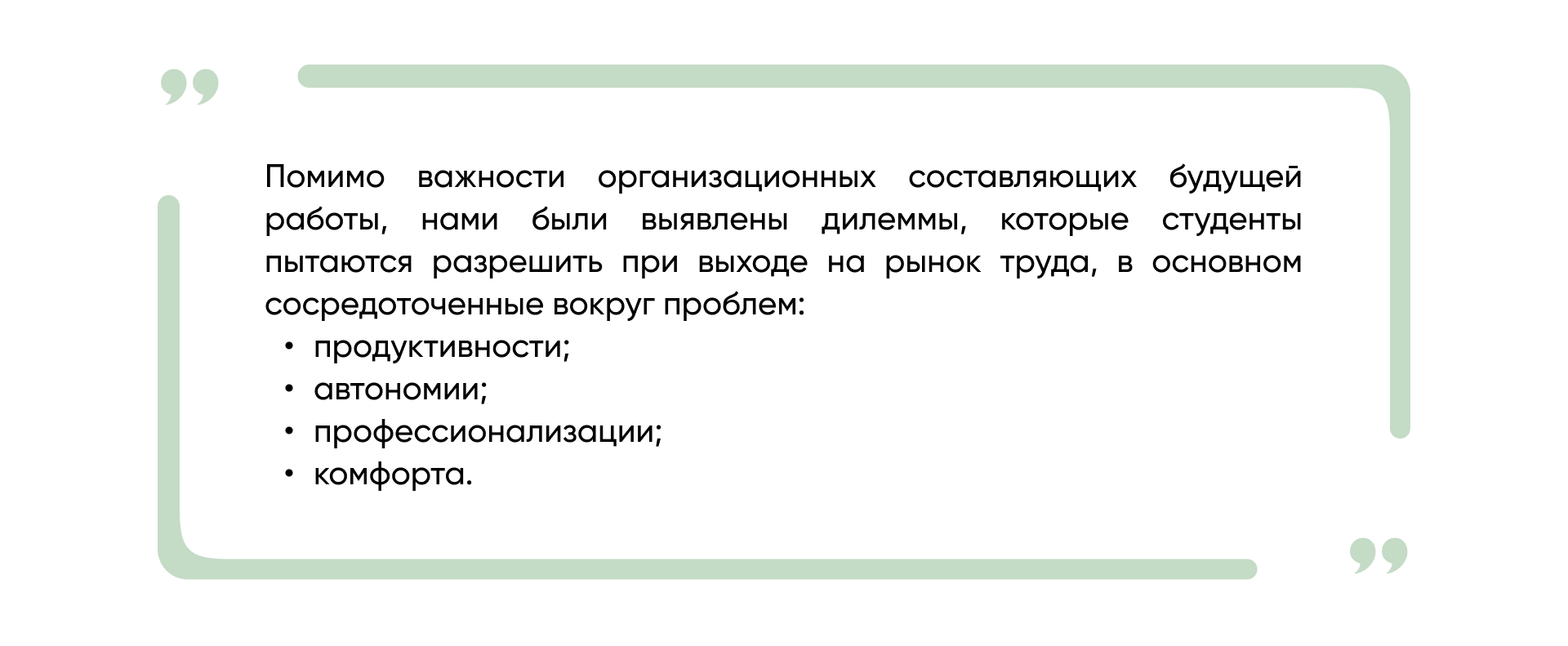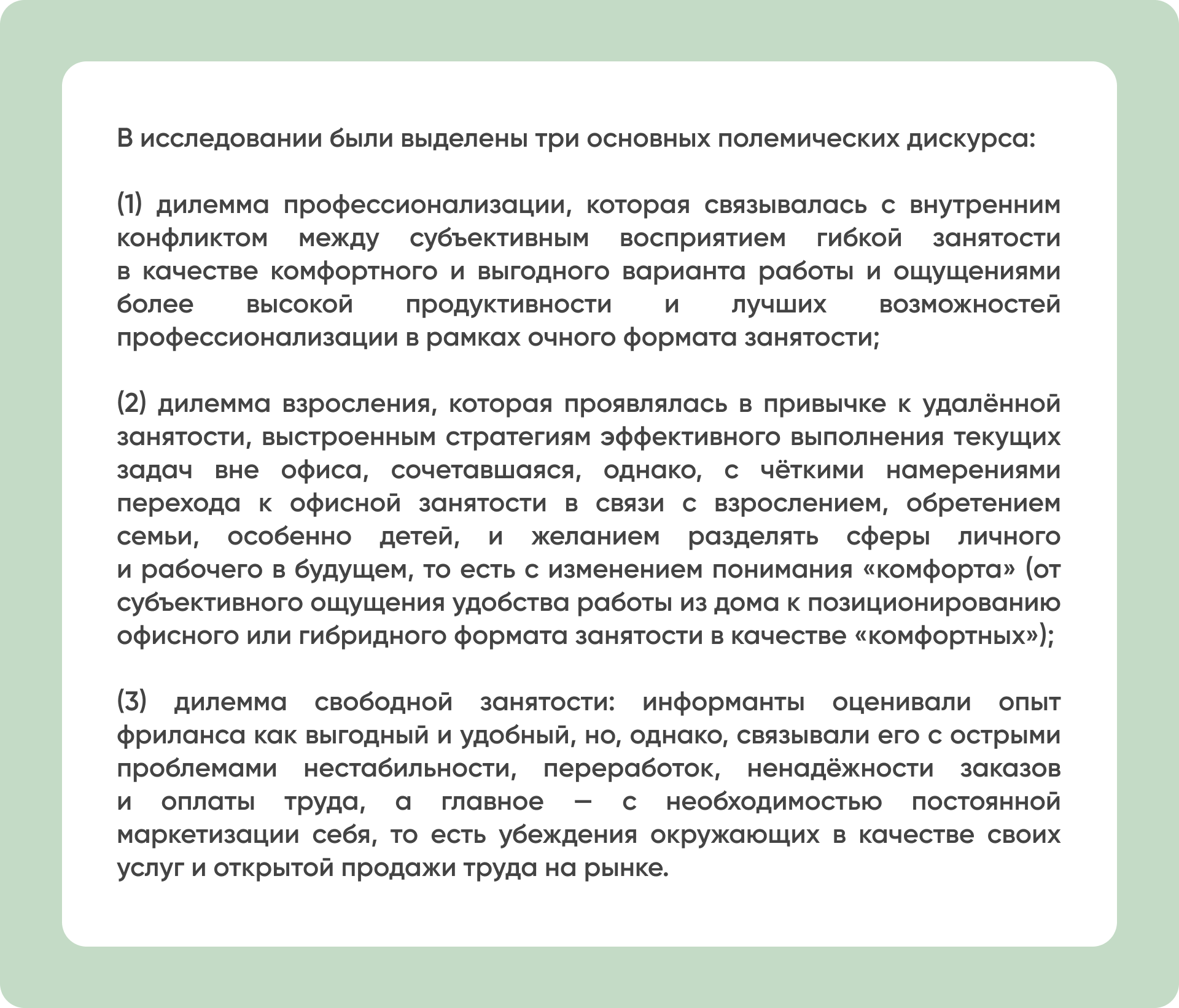Фото: freepik.com
Введение
Сегодня в средствах массовой информации можно встретить
множество статей на тему приоритетности гибкой организации труда,
переориентации занятых интеллектуальным трудом профессионалов на менее
структурированные рабочие графики, удалённый и гибридный форматы занятости
(Разгуляева М., Осипова О. Печеньки и гибкий график. Молодые люди стали
придирчивы в выборе работы // Аргументы и факты. Ссылка;
Денисова А. Гибкая организация труда важнее заработной платы //
Intercomm.Media. — Ссылка;
Исследование Jabra: для 59% сотрудников гибкая организация работы важнее, чем
зарплата // Cossa. Ссылка), а
также переосмысления офисной политики работодателей, связанной в том числе со
сложностью удержания молодых работников на местах и общим дефицитом
квалифицированных кадров (Игнатова О. За год интерес соискателей к вакансиям с
гибким графиком вырос на 79% // Российская газета. Ссылка;
Кушнарев М. Работодатели стали чаще предлагать сотрудникам гибкий график из-за
нехватки кадров // Бизнес-секреты. Ссылка;
Соискатели стали чаще откликаться на вакансии с гибким графиком работы // The
HRD. Ссылка),
который, впрочем, наблюдается в России уже давно (см., например: [9; 3]).
Согласно исследованиям, молодые квалифицированные кадры сегодня чаще меняют
работу, чем представители старших поколений в молодом возрасте, и готовы к
мобильности ради повышения заработка и позиций [11; 15; 14; 18], а также
активнее других групп населения участвуют в платформенной занятости [10].
В научной дискуссии проблема распространения нестандартных
форм занятости обсуждается уже около тридцати лет и связывается в основном с
вопросами цифровизации и реструктуризации рынка труда [1; 2; 3; 34]. Вопросы
наподобие «Сколько часов должен работать человек в связи с автоматизацией
рабочих процессов?», «Как часы работы связаны с производительностью труда и
качеством жизни?», «Насколько цифровизация способствует или препятствует
балансу труда и отдыха, эффективности экономики?» составляют основной пул обсуждаемых
тем. В глобальном контексте существует повестка, связанная с инициированием
Международной организацией труда (МОТ) изменений государственной политики в
сторону сокращения количества рабочих часов, введения гибкого рабочего графика,
а также гибридных форм организации труда, что, согласно докладам, будет
способствовать повышению не только уровня удовлетворённости жизнью, но и
производительности труда, расцвету инноваций. Таким образом легитимируются
практики гибкой организации работы, включающей три составляющие: гибкость
графика, рабочее место и трудовые отношения [34], что связывается с общим
контекстом цифрового, постиндустриального мира.
В эмпирических исследованиях по теме демонстрируется связь
между гибкостью труда и повышением удовлетворённости работой и жизнью [22; 36;
20]. Гибкий график благотворно влияет на физическое здоровье работников [32],
и, что важнее всего, представители некоторых видов занятости (причём как менее
квалифицированной, такой как курьеры или таксисты, так и
высококвалифицированной, например IT-специалисты) зарабатывают в разы больше в
связи с нестандартными форматами деятельности [22]. Более того, ряд исследований
подтверждают идею, что среди сотрудников, практикующих гибкие условия
занятости, такие как свободный график, неполные рабочие дни или недели,
удалённая работа, гибкий отпуск и т. п., наблюдаются укрепление морального
духа, меньший уровень абсентеизма, низкие показатели намерений уволиться, более
высокие показатели лояльности фирмам и вовлечённости в рабочие процессы [32;
34; 35; 36].
Однако, несмотря на все позитивные тренды и высокую риторику
в сфере гибкости трудовых отношений, их организации во времени и пространстве,
социологи высказывают опасения относительно рисков системы «гибкого
капитализма». Критика в основном связана с дискурсом автоматизации и
обсуждением таких процессов, как снижение спроса на труд, нестабильность
работы, незащищённость профессионалов, неопределённость будущего, невозможность
получения необходимого для выживания в урбанизированных пространствах заработка,
хаотичность режимов труда, отсутствие долгосрочных планов на будущее [33; 26;
17]. Авторы, критически относящиеся к реструктуризации рынка труда, говорят о
том, что автоматизация и цифровизация приводят к неудержимым технологическим
изменениям, которые уничтожают рабочие места и целые профессиональные сферы [1;
25], и, более того, на индивидуальном уровне ведут к интенсификации труда,
добавляя к выполнению рабочих задач необходимость постоянного поиска последних,
вступления в конкуренцию за рабочие места и проекты, что впоследствии приводит
к физическому и моральному истощению, а на макроуровне — к уменьшению
солидарности и мобилизационных сил трудящихся, а также к отсутствию социальных
гарантий со стороны государства [1; 33].
Оценка работником опыта построения гибких карьеры и формата
занятости во многом зависит от причин, по которым они возникают. Если переход к
нетрадиционному типу занятости инициирован организацией с целью уменьшения
издержек по найму персонала и постоянной оплате его труда, безусловно,
работники будут терпеть убытки и находиться в незащищённом, прекарном положении
[34]. Такие негативные тренды, как неуверенность работника в стабильной
занятости и надёжном трудоустройстве [37] и — со стороны организаций — отрицательное
влияние нефиксированных графиков и удалённой занятости на производительность
труда, уменьшение вовлечённости в проекты, невозможность отследить намерения
работника уволиться или уйти в конкурирующую организацию [36; 30], обращают на
себя внимание исследователей. Также, например, Лилиа Де Менезес и Клэр Келлихер
показали, что неформальные гибкие договорённости влияют на производительность
труда положительно, а формальное установление удалённого режима, фиксированные
договорённости о месте и времени выполнения задач — отрицательно, при том что
любой из типов гибкости повышает уровень удовлетворённости работой [30].
Так как мнения относительно гибкости труда зависят от
контекста и зачастую противоречат друг другу, важно понять, какой взгляд
формируется у молодых людей, будущих специалистов, получивших свой первый опыт
занятости (в основном удалённой) в период пандемии COVID-19. В настоящем
исследовании мы ставим вопросы: как работающие студенты бакалавриата оценивают
перспективы нестандартной занятости, как рационализируют свой выбор за или
против гибкости труда? Есть ли у них сомнения относительно организации будущей работы?
Какой формат занятости они предпочитают в своих рассуждениях о настоящем и
будущем?
Методология исследования
Исследование выполнено в качественной парадигме, в фокусе —
логика оценивания разных форм организации труда работающими студентами высших
учебных заведений России.
Эмпирическую базу данных составляют 38 интервью со
студентами бакалавриата, проведённые в декабре 2021 г. Одной из особенностей
методологии настоящей работы является содержательная взаимосвязь с масштабным
количественным опросом студенческой молодёжи, который показал, что в целом
студенты делятся на две противоположные категории, ориентированные на привычные
или на гибкие форматы занятости (желательность построения традиционной/гибкой
карьеры; работа из дома/из офиса; положительный/отрицательный выбор гибкого
графика среди прочих важных характеристик работы) (см. подробнее: [12, с. 72]).
Другая особенность исследования — построение выборки максимальных вариаций,
которая квотировалась исходя из результатов количественного этапа исследования
и является попыткой представить нарративы потенциальных высококвалифицированных
кадров нашей страны. Насколько нам известно, подобных исследований на тему
отношения к организации будущей работы пока что не предпринималось.
Описывая выборку, отметим, что все информанты были в
возрасте 18–24 лет и уже имели опыт работы. Выборка квотировалась по регионам
(16 городов из 6 федеральных округов), направлениям обучения (с преобладанием
гуманитарных и инженерно-технических специальностей), а также по гендерной
принадлежности информанта с небольшим преобладанием мужчин в выборке (16 женщин
и 22 мужчины), что может быть ограничением настоящего исследования. Отметим: в
рамках анализа феномена гибкости труда обычно акцентируются различия нарративов
мужчин и женщин, однако современные исследования ставят под сомнение данный
вывод, говоря о равной распространённости и ценности нестандартных форм
занятости для представителей обоих полов (см. подробнее: [21; 31; 23; 27; 8]).
Мы также констатируем отсутствие видимых различений в нарративах опрошенных
нами молодых мужчин и женщин относительно организации их будущего труда, что
может быть связано с отсутствием значимых различий в жизненных и особенно
семейных ситуациях на этапе вхождения в профессию. Соответственно, в разделе с
результатами исследования приводим наиболее акцентные для представителей обоих
полов нарративы.
Интервью были полуструктурированными, проводились онлайн.
Основные блоки гайда посвящались выбору специальности, оценке опыта работы во
время учёбы, образу будущей работы и рефлексии относительно важности разных её
характеристик и вопросов организации труда. Все интервью транскрибировались
вручную, а полученный массив информации анализировался методами открытого,
тематического и осевого кодирования. Ввиду широкого теоретического обсуждения в
отечественной и зарубежной литературе проблем гибкости труда, а также наличия
эмпирического подтверждения ориентации российской молодёжи на новые форматы
занятости мы пытались найти в собранном материале обоснования в пользу более
или менее инновационных форматов занятости (гибкий график, удалённая работа,
фриланс). Анализ рассуждений информантов вокруг проблем организации их текущей
и будущей работы позволил выявить основные полемические нарративы, которые
информанты артикулировали, осмысляли и рационализировали в ходе бесед.
Результаты анализа данных
Собранный эмпирический материал показал, что проблема
организации будущей работы осмысляется молодёжью в качестве одной из
центральных. В рамках ответов на вопрос, что входит в пул наиболее значимых
характеристик будущей работы и определяет её сравнительные преимущества,
информанты упоминали гибкий график, возможность удалённой занятости, а также
допустимость сочетания подработок и фриланса. Безусловно, всё это вторит
контексту, в котором молодые люди получают первый опыт работы (COVID-19,
появление цифровых платформ, широкие возможности фриланса, акцент на балансе
труда и отдыха и т. п.), и не является новой информацией.
Однако в ходе рассуждений информантов выявлялась более
сложная, противоречивая логика оценивания нестандартных форм занятости.
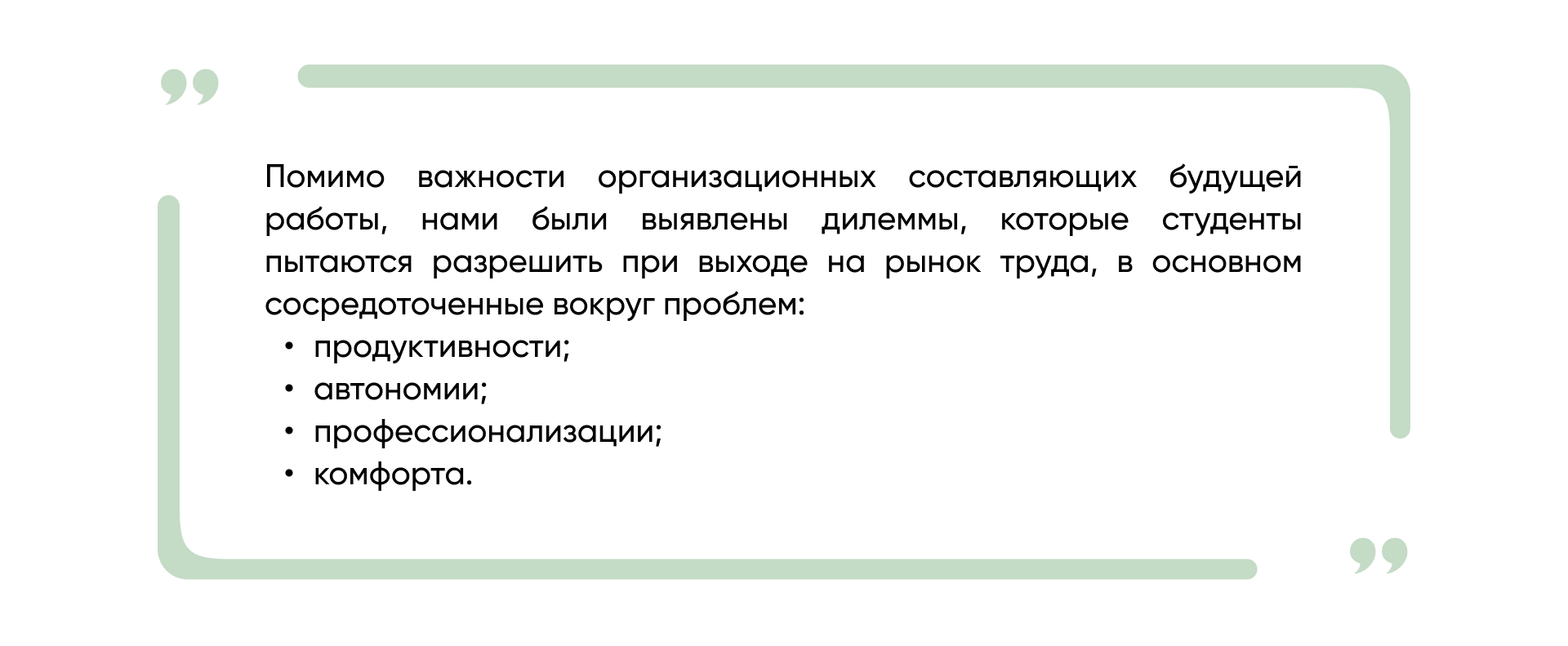
Эти дилеммы воспринимались не в сиюминутном
контексте текущей ситуации на рынке, а, скорее, через призму жизненной
перспективы информанта, по терминологии В.И. Ильина — жизненной колеи
профессионала (комплекс компетенций и установок, подстраивающихся как под
личные потребности и обстоятельства, так и под профессиональное пространство
рынка труда) [6].
(Введённый В.И. Ильиным термин «профессиональная колея»
является методологическим инструментом социолога, позволяющим изучить габитус
человека, заставляющий или мотивирующий его идти по определенной
профессиональной траектории и ограничивать свою мобильность [6, с. 524]; профессиональная
колея в этом отношении может считаться частным случаем «жизненной колеи»
человека, то есть во многом связываться с социокультурным пространством,
пониманием своего места в нём, а также зависеть от социальных ролей, которые
человек обретает в процессе социализации и под влиянием более широкого круга
внешних факторов, например, изменений в социально-политической, экономической
ситуации в стране, в мире).
Дилемма профессионализации: конфликт субъективного
восприятия продуктивности и комфорта
В интервью при обсуждении предпочтительных форматов
организации будущей работы информантам предлагалось выбрать между офисным типом
занятости, ассоциирующимся со строгим распорядком и определённым местом
выполнения задач, и работой в удалённом формате, без привязки к месту, времени,
коллективу; а также обосновать свой выбор. Согласно результатам анализа,
нарративы информантов по этому вопросу были выстроены вокруг соотнесения
рефлексируемого уровня продуктивности на работе, который оценивался выше именно
в связке с очным форматом, коллаборацией с коллегами и руководителями в
трудовых коллективах, и уровнем личного комфорта, который связывался с работой
из дома, отсутствием необходимости ездить в офис, широкими возможностями
планирования личной жизни и дел без привязки к строгому рабочему графику.
Важно, что данные собирались в постпандемийный период, и у информантов в
большинстве кейсов был опыт именно удалённой занятости, который они сравнивали
с офлайн-режимом. Информанты признавались, что домашнее пространство не всегда
способствовало сосредоточению на задачах и их успешному выполнению, хотя
работать из дома по многим причинам было удобнее. В нарративах представлена
данная дилемма, которая выражалась во взаимно противоречивых суждениях
относительно организационных аспектов труда:
«Гибкость? Я ездил в офис и никому этого не пожелаю. Это
ведёт к быстрому угасанию. Намного легче находиться в комфортной обстановке,
где ты сам можешь управлять своим временем, фокусом внимания… Конечно,
развивать людей, которые моложе тебя, в онлайне сложнее… Я думаю, молодому
человеку нужно ходить в офис, чтобы развиваться быстрее». (Интервью 3,
мужчина, математические и естественные науки, предприниматель, опыт работы в
крупной организации, Москва).
Примечание: цитируя интервью, мы указываем пол, город
проживания, специализацию информанта; при наличии значимых различий между
направлением обучения и работой информанта указываем также сферу работы.
«Я бы хотел работать из дома, но я понимаю, что дома я
работаю хуже, чем, допустим, где-то. Это минус, наверное, для
работодателя. Можно в рабочее время делать что угодно». (Интервью 11,
мужчина, гуманитарные науки, административная работа, Москва.)
Согласно высказываниям информантов, очный формат работы
благотворно влияет на их интеграцию в профессиональную среду: легче происходит
фокусировка на рабочих задачах; создаётся ощущение причастности к общему делу,
появляется чувство коллективной продуктивности; молодые неопытные работники
получают быструю обратную связь от коллег и руководителей, что ускоряет процесс
принятия решений и позволяет оперативно справляться с возникающими проблемами.
«Дома есть своё настроение. А в офисе рабочая атмосфера,
которая мотивирует тебя. Ты видишь людей, которые работают, ты можешь сразу
решить какие-то вопросы, у тебя есть отклик. <…> Есть люди (как я),
которым нужна чёткая дисциплина. Тогда всё будет идти в гору. А если, скажем,
дать свободы, то наступит прокраcтинация. И это всё…» (Интервью 31,
женщина, гуманитарные науки, психолог, Подмосковье.)
Отдельно у поддерживающих офисный формат информантов
выделялись нарративы об ответственности работодателя перед своими сотрудниками,
проблеме, которая обсуждается в критических работах об организации труда,
акцентирующих внимание на тенденциях передачи рисков по трудоустройству и
поиску заказов от работодателя к работнику [33]. Работодатель, во-первых,
должен организовать труд своих работников, чтобы они успевали в рабочее,
оплачиваемое время выполнять требуемые задачи; во-вторых, обязан предоставить
им материальное оснащение (например, технику) и инфраструктуру (например,
исправно и быстро работающий Интернет), так как для обеспечения качественных
условий труда нужны денежные средства. Лаконично данный аспект представлен в
одном из интервью:
«Мне было бы комфортнее работать в офисе. Почему? Для
того, чтобы работать из дома, нужна определённая техника. Для того, чтобы
обеспечить технику, нужны деньги. Для того, чтобы заработать деньги, нужна
работа. Это такой замкнутый круг». (Интервью 8, мужчина, науки об обществе,
сфера услуг, Екатеринбург.)
Безусловно, не все информанты отмечали организованный труд в
качестве приоритетного. Были нарративы с обоснованием выбора в пользу гибкого
формата занятости, динамичной работы с возможностью автономно выстраивать свои
временны́е и пространственные приоритеты. Важно отметить: во внимание в данном
случае принимается не столько тайм-менеджмент, сколько то, что профессионалу
необходимо выделять свободное время для творческой перезагрузки и отдыха, а
также саморазвития и самообучения. Всё это в нарративах информантов связывалось
с повышением качества труда, а не с вопросами личного удобства и комфорта.
Важно, что такие нарративы были присущи информантам, занятым в сферах социально
ориентированного труда, подразумевающего общение с клиентом и решение его
проблем (например, лечение, обучение, психологическая помощь и т. п.), то есть
в сферах, относящихся к классическому в социологии профессий пониманию
профессиональной деятельности [7].
«Если ситуация складывается таким образом, что я понимаю,
что будет ущерб моей работе, в смысле её качеству, то скорее я откажусь от
сверхурочной работы и такого [строгого] графика». (Интервью 2, женщина,
гуманитарные науки, психолог, Москва.)
«Все мы знаем, что у нас есть эффект переедания, мы
работаем, потом «глаза замыливаются», и ничего не видно… Нужно отвлекаться.
Надеюсь, я понятно выражаюсь... Когда ты осуществляешь смену вида деятельности,
эффективность работы повышается. То есть поговорили, отвели уроки, покушали,
попроверяли, вернулись к урокам с новыми мыслями, с новыми силами, с новыми
эмоциями. Поэтому гибкий график здесь — очень классная штука». (Интервью
19, мужчина, инженерное дело и технические науки, педагог и научный работник,
Екатеринбург.)
Дилемма взросления: удобство работы из дома сейчас и
намерение перейти к офисному типу занятости в будущем
Большинство информантов в выборке имели опыт удалённой
занятости и гибкого графика работы, так как трудоустраивались в период пандемии
и в условиях меняющегося рынка труда или же работали в сферах, где удалённая
занятость возможна и уже начинала вводиться работодателями. Информанты
подчёркивали, что к гибким условиям труда быстро привыкаешь и они имеют свои
безусловные преимущества. Например, сам период выполнения задач занимает не так
много часов в течение дня/недели, и оставшееся от работы время можно посвятить
собственным делам, саморазвитию и/или отдыху. Всё это повышает автономию
работника в плане организации собственного труда и зачастую приводит к более
своевременному, ответственному, чёткому выполнению требуемых работодателем
заданий. Конечно, такие сотрудники хотели бы сохранить возможности гибридной
занятости и комфортной работы.
«Хотелось бы очень гибкость сохранять. Так привычнее.
Хотелось бы так: «вот, на, делай», можешь приходить в офис, можешь не
приходить, делай [задачу], и всё». (Интервью 17, мужчина, инженерное дело и
технические науки, множественная занятость, Санкт-Петербург.)
«Хоть я в этот день и сходил в театр, но это не
освободило меня от того, чтобы изучить весь объём информации». (Интервью 8,
мужчина, науки об обществе, сфера услуг, Екатеринбург.)
При этом в интервью выделялся нарратив о планировании
будущего: изменении жизненной ситуации индивида, а также его семейного
положения в более взрослом возрасте. В этом контексте удобство выстроенного
типа нестандартной занятости вызывало сомнения; информанты обоих полов начинали
рассуждать о размывании границ между домом и работой, личным и рабочим временем
(по теме, которая проблематизируется зарубежными авторами, см., например: [24;
29]). Также упоминались кейсы увеличения продолжительности рабочего дня,
переработок во внерабочее время (по ночам и в выходные дни), проблемы со
здоровьем и организацией отдыха.
«…Я могу обнаружить себя через 10 часов: что я не
вставала, не ходила даже буквально в туалет. Но я стараюсь с этим бороться.
Потому что это на самом деле очень распространено среди программистов, которые
практически все работают на удалёнке. Это тоже большая проблема: что сложно
себя организовывать. Не в том, чтобы начать работать, а в том, чтобы начать
отдыхать». (Интервью 16, женщина, медицинские науки, сфера продаж,
Воронеж.)
Таким образом, работа из дома не виделась потенциальными
профессионалами комфортной перспективой на будущее, когда они пройдут этапы
взросления (В.В. Радаев считает, что такие события, как достижение финансовой,
пространственной и эмоциональной независимости от родителей, в том числе
обретение собственной семьи и рождение детей, могут служить индикаторами
взрослости человека [14]). Информанты рассуждали о будущей семье, проблемах
совмещения ухода за детьми с занятостью на дому. И офис уже виделся хорошей
возможностью разделить сферы личной жизни и работы. Важно, что даже
субъективные психологические характеристики, например отнесение себя к
интровертному типу личности (в рамках отнесения человека к интровертному типу
личности мы руководствовались рассуждениями информантов о себе, например: «…я
вообще любитель побыть один, вообще не очень коммуникабельный человек; удалёнка,
когда делаешь всё сам, никто тебе не мешает, — это прекрасно»), не
нивелировали ощущения потенциально негативных последствий размытости
пространств дома и работы в связи с взрослением и профессионализацией. В
нарративах можно было отметить рассуждения о преимуществах наличия офиса и
возможности его посещения время от времени.
«Опять же, вот сейчас я думаю, что удалёнка лучше… Но
смутные сомнения меня терзают, что всё-таки не очень, потому что есть рабочие
задачи, а есть домашние. А когда на удалёнке дома, всё так сглаживается,
сливается — и уже непонятно. Уже хочется в рабочее время отдохнуть, а в
свободное время — вечером, там, — что-то поделать, поработать». (Интервью
24, мужчина, инженерное дело и технические науки, платформенная занятость,
Екатеринбург.)
«Да, в нашем случае — это комфорт. У меня есть все
условия комфортной работы дома, потому что у меня нет детей, есть своя комната.
Но не каждый располагает такими условиями. У кого-то, например, нет даже
банального стола, на котором он мог бы разместить оборудование для работы.
Поэтому вопрос об удалёнке очень индивидуальный». (Интервью 6, мужчина,
инженерное дело и технические науки, инженер, Удмуртия.)
«Мне на это сейчас пофиг. А если будут у меня… дети,
наверняка это [наличие офиса] будет важно». (Интервью 5, мужчина, науки об
обществе, аналитик, Москва.)
Дилемма «свободной занятости»: фриланс как временный и
«несерьёзный» вариант работы
В одном из наиболее масштабных исследований фрилансеров в
России авторы определяют их как высококвалифицированных профессионалов,
представителей «свободной занятости» (см. подробнее: [15; 13]). Результаты этих
исследований показывают, что фрилансеры привержены внутренним трудовым
ценностям, предпочитают независимость, баланс между работой и личной жизнью,
демонстрируют сравнительно более высокие уровни удовлетворённости работой и
заработной платой по сравнению с офисными работниками [15]. Однако при анализе
нарративов интервью со студентами российских вузов, имеющими опыт фриланса во
время учёбы, выявился иной нарратив, а именно наличие опасений относительно
продолжительной вовлечённости во фриланс из-за отсутствия социальных гарантий и
необходимости постоянного поиска заказов для поддержания приемлемого уровня
дохода. Во время учёбы в вузе платформенная занятость воспринимается студентами
как хороший вариант подработки, которую можно сочетать с учёбой. Однако такой
тип занятости в целом кажется не серьёзным, а лишь временным, удобным
вариантом, приносящим доход.
«Фриланс для меня — это не работа, а какая-то подработка.
Я бы не назвал это какой-то особо тяжёлой, особо времязатратной работой».
(Интервью 11, мужчина, гуманитарные науки, административная работа, Москва.)
Как мы сказали выше, рассуждения о возможности продолжать
работать во фрилансе в основном подчёркивают нестабильность данного типа
занятости. Во-первых, фрилансеры часто сталкиваются с непредсказуемостью
доходов. Молодые люди в нарративах отмечали невозможность планирования крупных
трат на будущее, таких как, например, покупка квартиры или машины («в один
месяц может быть много заказов, а в другой — ни одного»), что создаёт
финансовую нестабильность и затрудняет планирование бюджета. Во-вторых,
фрилансеры не имеют доступа к таким социальным льготам, обычным для работников
организаций, как оплачиваемый отпуск или больничные. Они должны самостоятельно
заботиться о своих накоплениях и обеспечивать себе финансовую безопасность на
случай болезни или необходимости взять выходной. В-третьих, фрилансерам
приходится самостоятельно выстраивать рабочие графики. Отсутствие чёткого
планирования задач может привести к трудностям в управлении временем. Так,
некоторые фрилансеры могут слишком увлекаться работой и забывать о личной
жизни, в то время как другие испытывают проблемы с самодисциплиной, не могут
заставить себя работать.
«Потому что фриланс — это нестабильно. Вот я сейчас
работаю на второй работе, типа фриланса, и у меня вот уже третью неделю нет
заданий, потому что их нет, всё». (Интервью 17, мужчина, инженерное дело и
технические науки, множественная занятость, Санкт-Петербург.)
«Фриланс — это очень нестабильно. Когда-то деньги есть,
когда-то денег нет. Когда-то ты заработал хорошо, отдыхаешь. А потом деньги
закончились, и ты в поисках работы мечешься из угла в угол, не знаешь, куда
тебе пойти, что делать. Ещё фриланс — это же в пенсию не идёт, да? Вот эти вот
всякие там отчисления. Потом на что я буду жить, если доживу до пенсии? Как-то
скорее нет». (Интервью 24, мужчина, инженерное дело и технические науки,
платформенная занятость, Екатеринбург.)
«…Если это какие-то высокие доходы, под 100 и выше тысяч
рублей, то, конечно, здесь уже неофициально — это просто небезопасно. Тем более
если там какую-то ипотеку оформлять или что-то ещё, нужен официальный доход.
Поэтому после окончания университета буду переходить на официальное
трудоустройство». (Интервью 16, женщина, медицинские науки, сфера продаж,
Воронеж.)
Однако наиболее значимым для социологического осмысления
нарративом кажется идея, что фрилансерам для поддержания приемлемого уровня
доходов и относительной стабильности заказов приходится постоянно искать
клиентов, продвигать свои услуги вовне, а также нести ответственность за
результат, так как на начальных этапах они не имеют команды, с которой можно
было бы разделить задачи и посоветоваться. Некоторые опрошенные студенты,
имеющие опыт работы на фрилансе, начинают ощущать выгорание. Такая занятость воспринимается
в качестве не имеющей потенциала к саморазвитию и профессиональному становлению
(о чём уже упоминалось в исследованиях платформенной занятости [10, с. 15]).
Так, даже при наличии хорошего заработка, удобства работы
онлайн, возможности совмещать оплачиваемую занятость с учёбой в университете
и/или официальным трудоустройством в интервью со студентами, имеющими более
чёткие планы на будущее, выделялся дискурс неприятия фриланса как стратегии
карьерного развития и отказа от профессиональной стагнации.
«У меня есть пара знакомых, которые работают во фрилансе,
и они в целом довольны этим. Я очень рада, что они довольны. Я о себе не думаю
как о фрилансере, потому что рекрутёрство [профессиональная сфера информанта]
во фрилансе странно. А организовывать мероприятия — то, на что меня сейчас
тянет, — на фрилансе довольно тяжело». (Интервью 29, женщина,
информационные технологии, HR, Москва.)
«Вот даже сейчас, в 22 года… меня уже начинает бесить,
что я кому-то отвечаю в директе в [название социальной сети]. То есть для меня
эта работа максимум до четвёртого курса… Работать в телефоне, делать сторис —
это несерьёзно. Для меня это стагнация. <…> Соответственно, я понимаю,
что мне хочется решений каких-то сложных задач. Наверное, многие люди хотят
стать врачами, потому что хотят решать сложные задачки в жизни. Я хочу, чтобы
мой мозг работал. Мне это нравится». (Интервью 7, женщина, здравоохранение
и медицинские науки, опыт работы в SMM, Москва.)
В связи с этим важно выделить нежелание потенциальных
профессионалов тратить силы и время на поиск заказов, клиентов, рекламирование
своих услуг. Теоретически можно это описать как отказ от идеи коммодификации
себя, «продажи персонального бренда на рынке» [28, p. 312–318], то есть
сопротивление логике маркетизации. Опрошенные апеллировали к таким смыслам
профессиональной деятельности, как саморазвитие, а также социально значимый
вклад, что не всегда позволяет фриланс-занятость (см. подробнее: [13]). Особенно
ярко данный нарратив выявлялся в рамках общения со студентами, которые учились
или работали по профессиям врача, учителя.
Заключение
Проблема организации труда является одной из наиболее
обсуждаемых сегодня. Она встроена в дискуссии о понятиях достойной жизни и
работы, а также в общий дискурс цифровизации и реструктуризации современных
рынков. Осмысление организации труда молодыми людьми является важной темой
ввиду того, что многие работодатели уже меняют свою политику, подстраиваясь во
многом под современную молодёжь или её образ.
Но в рамках непосредственного общения с молодыми людьми, их
рассуждений, вопреки ожиданиям, нами были выявлены противоречивые дискурсы на
тему организации труда. Будущие российские профессионалы если не настроены
критично, то уверенно артикулируют внутренние дилеммы и проблемы, с которыми
сталкиваются сейчас и могут столкнуться при выборе гибкого формата работы в
будущем. Так, меняющийся, хаотичный, неопределённый режим работы кажется
опрошенным студентам временным вариантом, не лучшим как на первых этапах профессионального
становления (по причине не слишком высокой продуктивности, невозможности
полностью интегрироваться в среду, получить знания и опыт), так и в будущей
жизни потенциально семейных работников (из-за трудностей разделить сферы работы
и личной, семейной жизни, выстроить профессиональную и жизненную колеи).
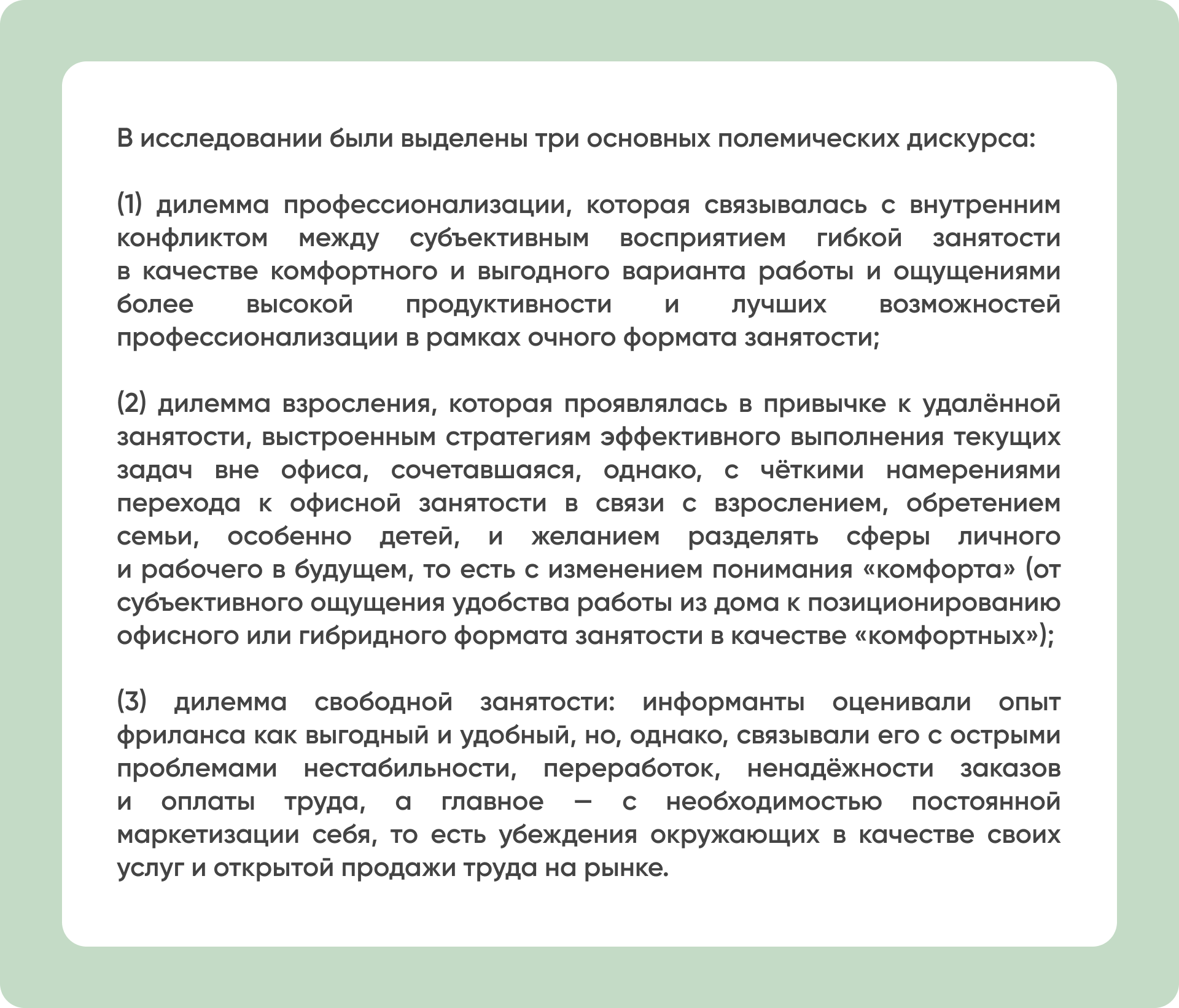
Несмотря на доминирующие нарративы об ограничениях гибкости
организации труда и дилемм, с нею связанных, часть информантов склонялись к
выстраиванию менее структурированных режимов труда как необходимого условия
качественного выполнения своей работы. Важно, что в нашей выборке установка на
гибкость, ассоциирующаяся с повышением личной эффективности труда, проявлялась
среди студентов и работников социально ориентированных сфер деятельности
(например, медицина, преподавание, психология и т. п.), что объединяет их в
категорию работы заботы, которая характерна для социально направленного труда,
требующего не только временны́х затрат, но и моральных, эмпатических ресурсов
(см. подробнее: [5; 18]), а также ощущения автономии; всё это, согласно
социологии профессий, является основными характеристиками профессиональной
деятельности [7].
Мы также подчёркиваем два значимых ограничения настоящего
исследования, которые связаны с молодым возрастом информантов, со схожестью их
карьерных траекторий и жизненных ситуаций (отсутствие семьи и детей), а также с
некоторым преобладанием мужских нарративов в выборке, что может делать
результаты смещёнными. Однако нам всё равно кажется важным осмысление
выявленных дилемм потенциальных профессиональных кадров относительно
организационных аспектов труда, а также отсутствие бесспорной ориентации на
гибкость, как порой это отражается в научной литературе и СМИ. Таким образом,
исследование показало приоритетность разных форматов работы для молодых людей
на разных этапах их жизненной и профессиональной социализации, а также
ориентированность на стабилизацию организационных аспектов работы в будущем.
Список литературы
1. Бенанав А. Автоматизация и будущее труда // Экономическая
социология. — 2022. — Т. 23. — № 3. — С. 92–108. DOI:
10.17323/1726-3247-2022-3-92-108 EDN: PCUPSS
2. Бобков В.Н. Гибкая занятость: путь к хаосу или новая
модель устойчивости рынков труда? // Уровень жизни населения регионов России. —
2018. — Т. 3. — № 209. — С. 7–17. — DOI: 10.19181/1999-9836-2018-10022 EDN:
YMRENF
3. Гимпельсон В., Капелюшников Р. (ред.). Нестандартная
занятость. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. — 16 c.
4. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Спрос
на труд и квалификацию в промышленности: между дефицитом и избытком //
Экономический журнал Высшей школы экономики. — 2007. — Т. 11. — № 22. — C.
163–199. EDN: IAEVNX
5. Гребер Д. Бредовая работа: трактат о распространении
бессмысленного труда / Пер. с англ. А. Арамяна, К. Митрошенкова. — М.: Ad
Marginem Press. 2021. — 368 c.
6. Ильин В.И. Профессия как индивидуальная жизненная колея:
концептуализация категории // Журнал исследований социальной политики. — 2015.
— Т. 13. — № 4. — C. 515–528. EDN: VSDBHT
7. Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий.
История, методология и практика исследований // Социологические исследования. —
2009. — Т. 8. — C. 36–46. EDN: KTUKMN
8. Монусова Г.А. Работа дома и вне: условия труда и
внерабочее время // Вопросы экономики. — 2021. — Т. 12. — C. 118–138. — DOI:
10.32609/0042-8736-2021-12-118-138 EDN: QMRACU
9. Мортиков В.В. Управление персоналом в условиях дефицита
кадров // Вопросы управления. — 2022. — Т. 1. — № 74. — C. 73–86. — DOI:
10.22394/2304-3369-2022-1-73-86 EDN: RWUORM
10. Платформенная занятость в России: масштабы, мотивы и
барьеры участия: аналитический доклад / О.В. Синявская, С.С. Бирюкова, Е.С.
Горват, Д.Е. Карева, Д.А. Стужук, К.О. Чертенков; Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ. — DOI: 10.17323/978-5-7598-2494-7 EDN: FILRJK
11. Поколение Z и рынок труда в России. — М.; СПб.: Hays
plc., 2019 [электронный ресурс]. — Дата обращения: 26.12.2024. — Ссылка.
12. Поплавская А.А. Будущая работа глазами студентов
российских вузов: дифференциация образа работы в межрегиональной перспективе //
Мир России. Социология. Этнология. — 2023. — Т. 32. — № 1. — C. 61–86. — DOI:
10.17323/1811-038X-2023-32-1-61-86 EDN: QAGWCK
13. Поплавская А.А. Фриланс — свобода «от» или «для»?
Рецензия на книгу: Стребков Д.О., Шевчук А.В. Что мы знаем о фрилансерах?
Социология свободной занятости. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022 //
Социологический журнал. — 2023. — Том 29. — № 2. — C. 170–182. — DOI:
10.19181/socjour.2023.29.2.8 EDN: JWUQRM
14. Радаев В.В. Миллениалы: как меняется российское
общество. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 224 с. — DOI:
10.17323/978-5-7598-1985- 1 EDN: STOTFS
15. Решетников О.В. Поколение Z и недалекое будущее рынка
труда // Школьные технологии. — 2014. — Т. 1. — С. 58–71. EDN: RXXHSB
16. Стребков Д.О., Шевчук А.В. Что мы знаем о фрилансерах?
Социология свободной занятости / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». —
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 527 с. — DOI:
10.17323/978-5-7598-2722-1 EDN: GYGZLX
17. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / [Пер. с
англ. Н. Усовой]. — М.: Ad Marginem, 2014. — 326 с.
18. Якимова З.В., Масилова М.Г. Поколение Z как
потенциальный сегмент рынка труда // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. — 2017. — Т. 6. — № 4. — С. 341–345. EDN: ICXJOB
19. Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. «Не мужское это
дело...». Гендерный анализ занятости в социальной сфере // Социологические
исследования. — 2002. — № 6. — С. 74–82.
20. Allen
T., Johnson R., Kiburz K., Shockley K. Work-Family Conf lict and Flexible Work
Arrangements: Deconstructing Flexibility // Personnel Psychology. — 2013. —
Vol. 66. — P. 345–376. — DOI: 10.1111/PEPS.12012
21. Atkinson
C., Hall L. The role of gender in varying forms of flexible working // Gender,
Work & Organization. — 2009. — Vol. 16. — No. 6. — P. 650–666. — DOI:
10.1111/j.1468-0432.2009.00456.x
22. Chen
K., Rossi P., Chevalier J., Oehlsen E. The Value of Flexible Work: Evidence
from Uber Drivers // Journal of Political Economy. — 2019. — Vol. 127. — No. 6.
— P. 2735–2794. — DOI: 10.1086/702171
23. Chung
H. Gender, flexibility stigma and the perceived negative consequences of
flexible working in the UK // Social indicators research. — 2020. — Vol. 151. —
No. 2. — P. 521–545. — DOI: 10.1007/ s11205-018-2036-7
24. Chung,
H., Van der Lippe, T. Flexible working, work-life balance, and gender equality:
Introduction // Social indicators research. — 2020. — Vol. 151. — No. 2. — P.
365–381. — DOI: 10.1007/ s11205-018-2025-x
25. Frey
C.B. The Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation. —
Princeton: Princeton University Press, 2019. — 480 p.
26. Kalleberg
A.L. Good jobs, bad jobs: The rise of polarized and precarious employment
systems in the United States, 1970s–2000s. — N.Y.: Russell Sage Foundation,
American Sociological Association Rose Series in Sociology, 2011. — 292 p.
27. Kelly
E., Moen P. Overload: How Good Jobs Went Bad and What We Can Do about It. —
Princeton: Princeton University Press, 2020. — 336 p.
28. Lair
D.J., Sullivan K., Cheney G. Marketization and the recasting of the
professional self: The rhetoric and ethics of personal branding // Management
communication quarterly. — 2005. — Vol. 18. — No. 3. — P. 307–343. — DOI:
10.1177/0893318904270744
29. Lott Y.
Does flexibility help employees switch off from work? Flexible working-time
arrangements and cognitive work-to-home spillover for women and men in Germany
// Social Indicators Research. — 2020. — Vol. 151. — No. 2. — P. 471–494. —
DOI:10.1007/s11205-018-2031-z
30. Menezes
L., Kelliher C. Flexible Working, Individual Performance, and Employee
Attitudes: Comparing Formal and Informal Arrangements // Human Resource
Management. — 2017. — Vol. 56. — P. 1051–1070. — DOI: 10.1002/HRM.21822
31. Munsch
C. Flexible Work, Flexible Penalties: The Effect of Gender, Childcare, and Type
of Request on the Flexibility Bias // Social Forces. — 2016. — Vol. 94. — No.
4. — P. 1567–1591. — DOI: 10.1093/SF/SOV122
32. Shifrin
N., Michel J. Flexible work arrangements and employee health: A meta-analytic
review // Work and Stress. — 2021. — Vol. 36. — P. 60–85. — DOI:
10.1080/02678373.2021.1936287
33. Snyder
B.H. The disrupted workplace: Time and the moral order of fiexible capitalism.
— Oxford: Oxford University Press, 2016. — 264 p.
34. Spreitzer
G.M., Cameron L., Garrett L. Alternative work arrangements: Two images of the
new world of work // Annual Review of Organizational Psychology and
Organizational Behavior. — 2017. — Vol. 4. — No 1. — P. 473–499. — DOI:
10.1146/annurev-orgpsych-032516-113332
35. Tsen
M., Gu M., Tan C., Goh S. Effect of Flexible Work Arrangements on Turnover
Intention: Does Job Independence Matter? // International Journal of Sociology.
— 2021. — Vol. 51. — P. 451–472. — DOI: 10.1080/00207659.2021.1925409
36. Wheatley
D. Employee satisfaction and use of f lexible working arrangements // Work,
Employment & Society. — 2017. — Vol. 31. — P. 567–585. — DOI:
10.1177/0950017016631447
37. Wysocka
M. Advantages and Disadvantages of Flexible Forms of Employment in the Opinion
of Employees // Olsztyn Economic Journal. — 2019. — Vol. 14. — P. 369–381. —
DOI: 10.31648/oej.4932
Оригинал публикации: Поплавская А.А. Гибкая
организация труда: желаемое будущее или туманная перспектива? Дилемма
работающих российских студентов // Социологический журнал. — 2025. — Том 31. —
№ 2. — С. 79–95. — DOI: 10.19181/ socjour.2025.31.2.4 EDN: OUCMJP. Ссылка